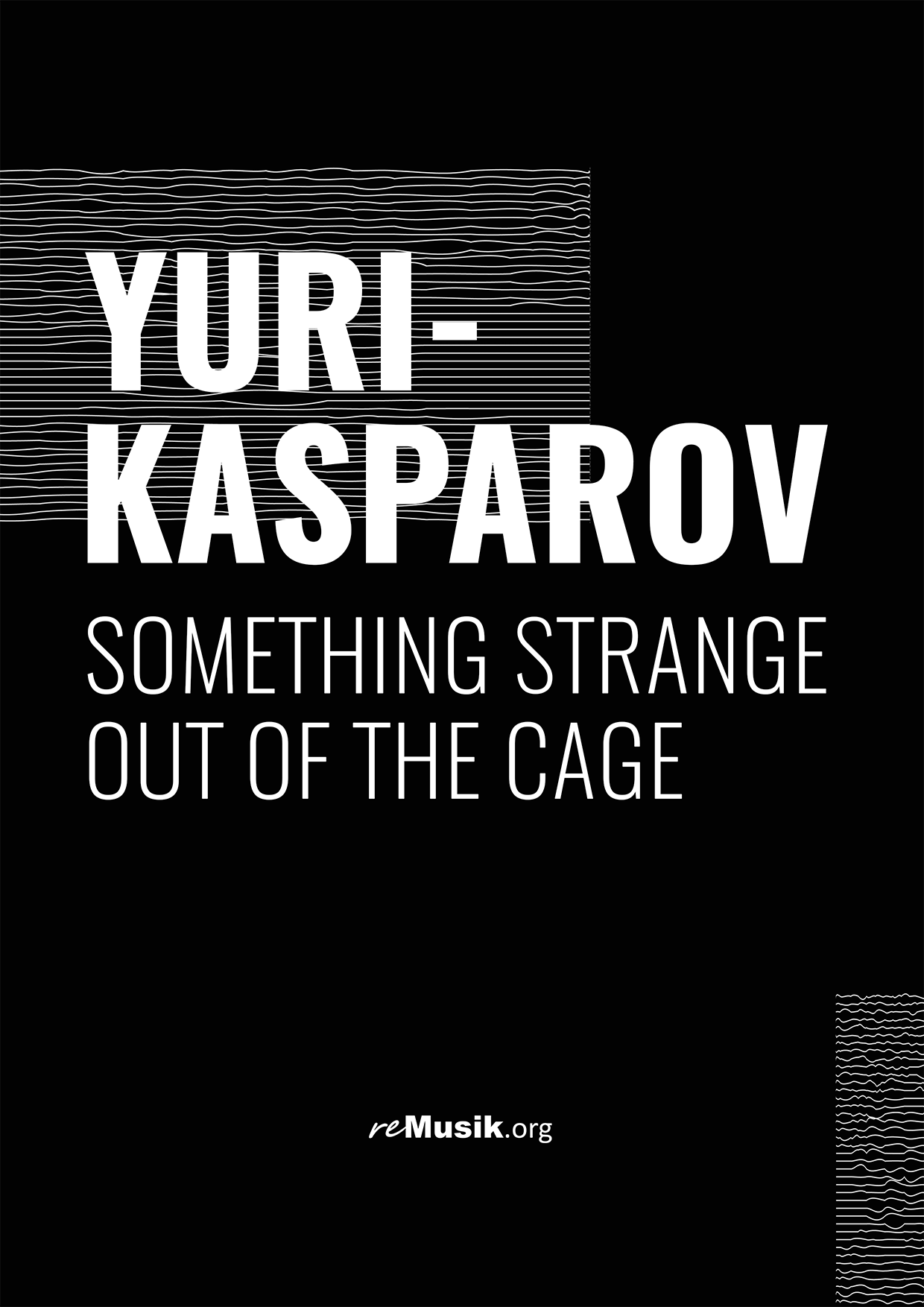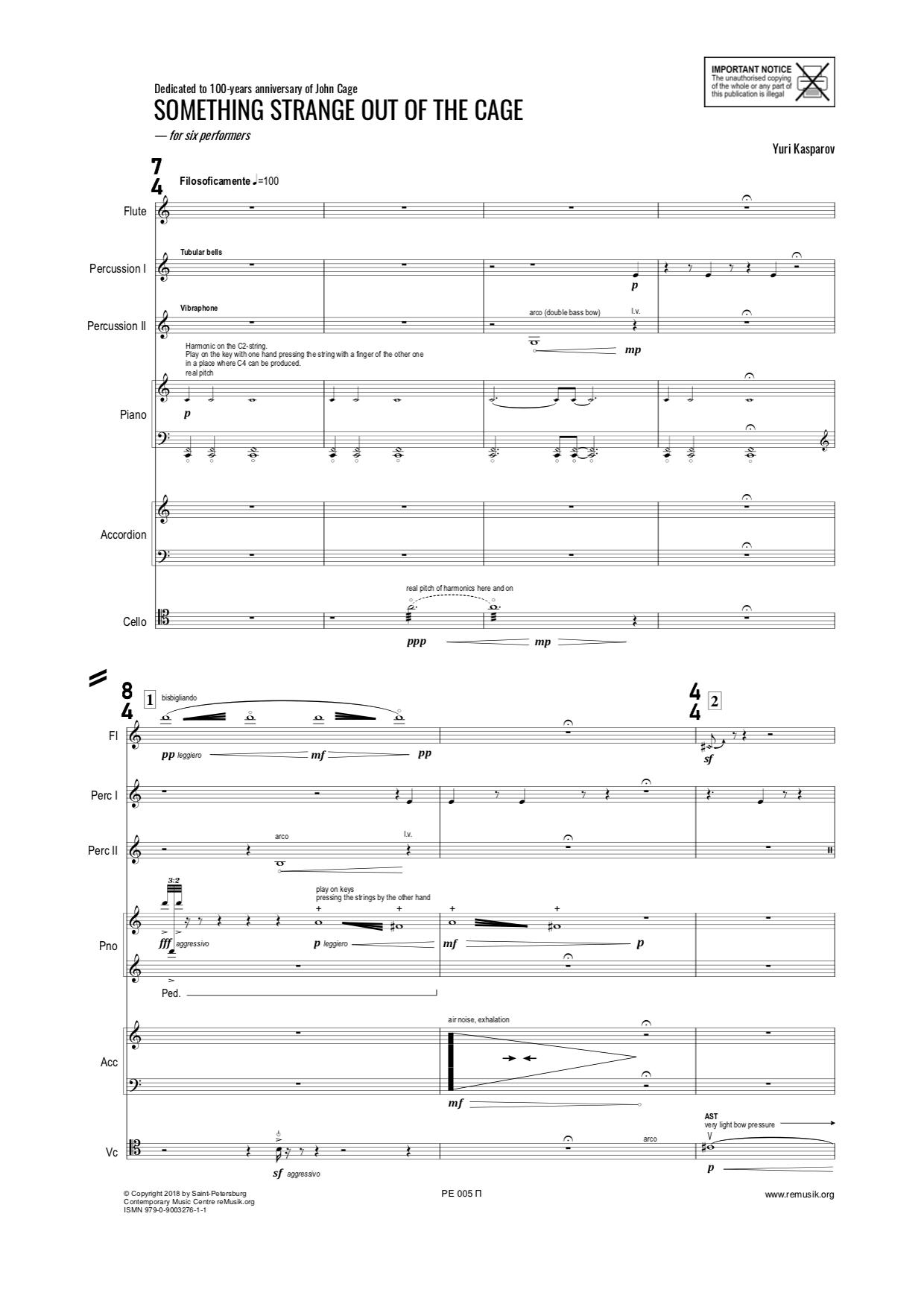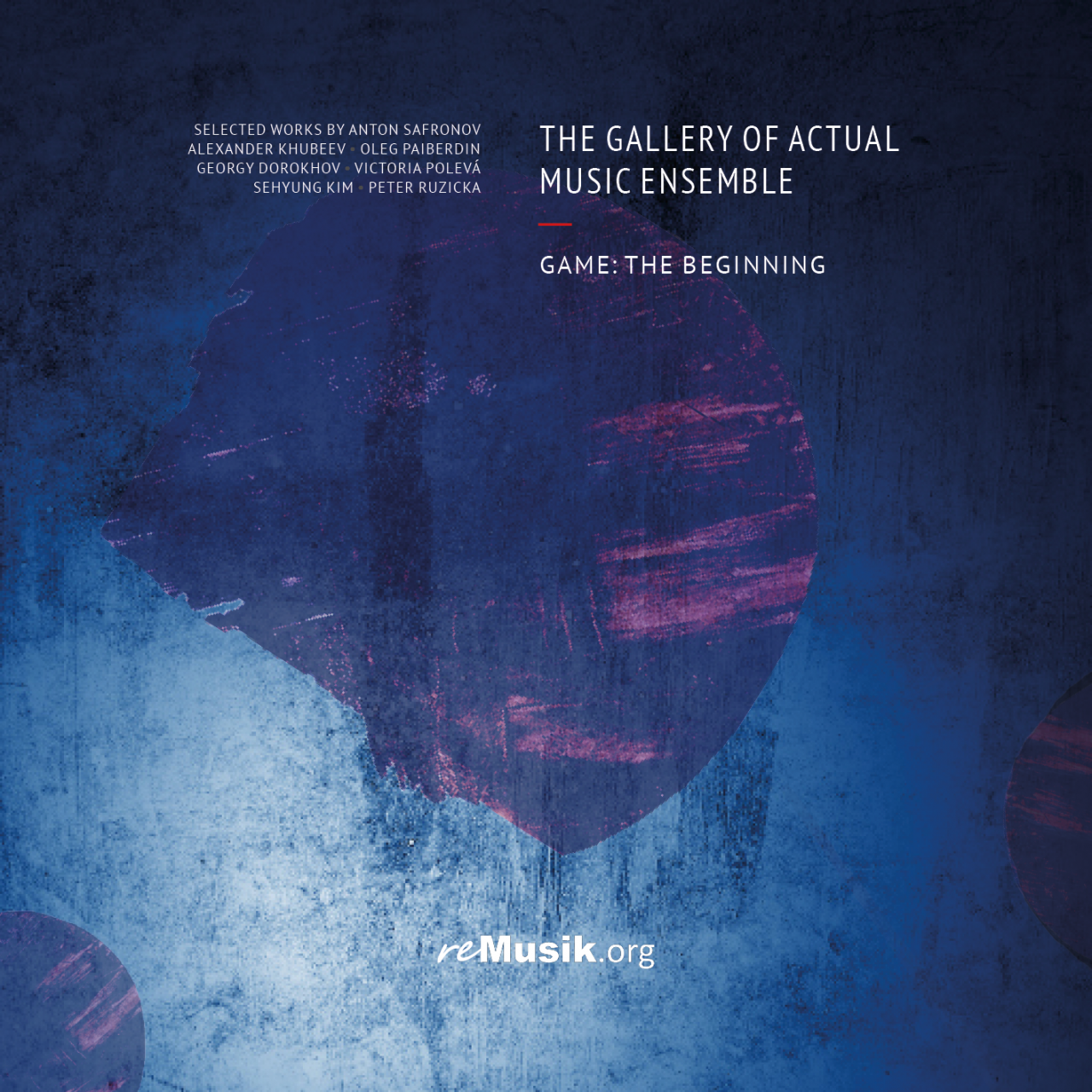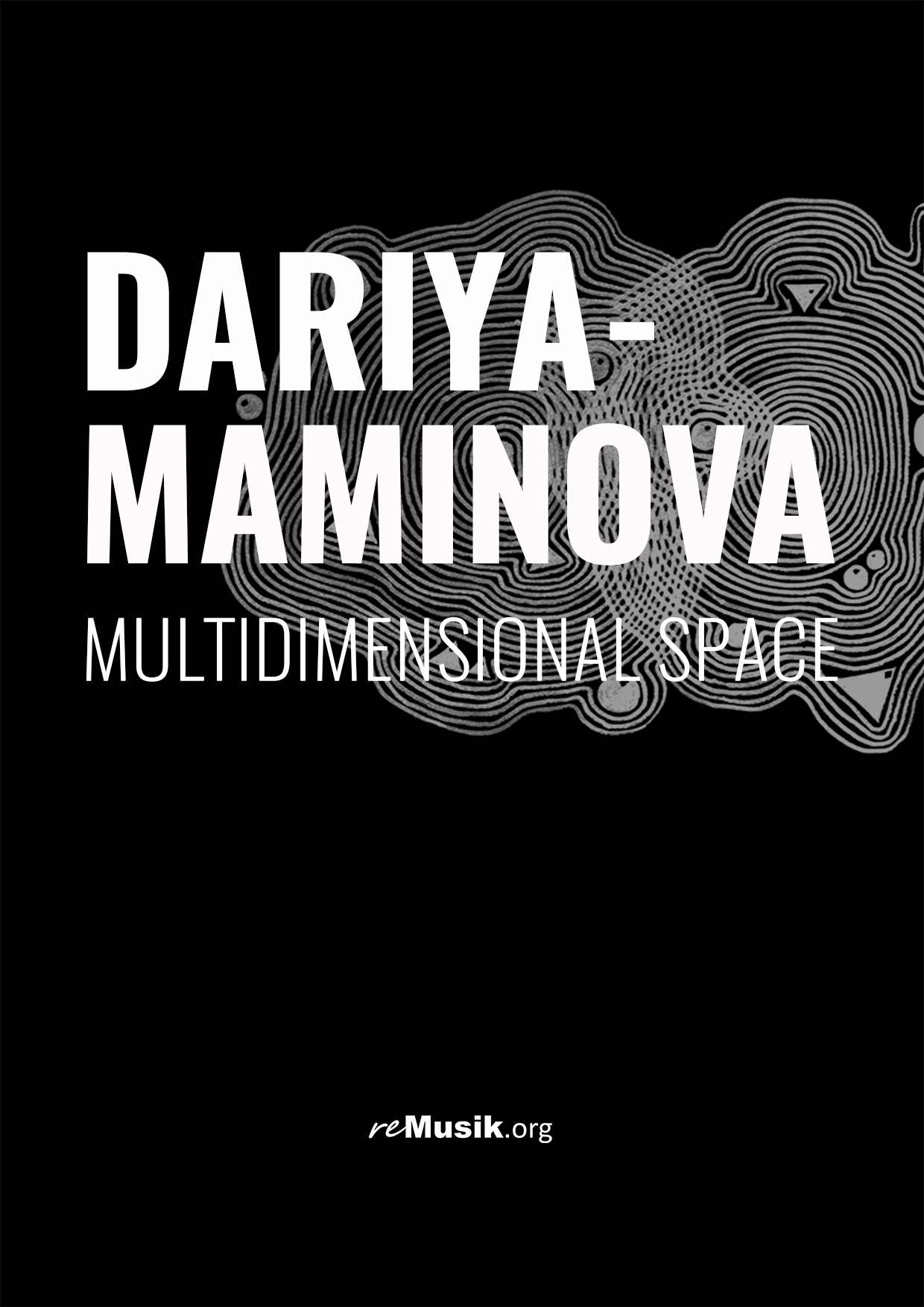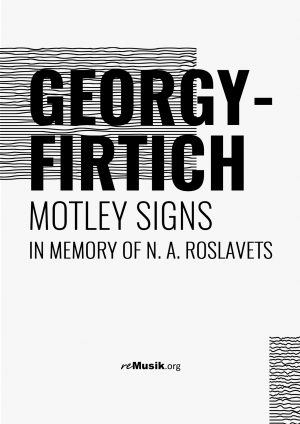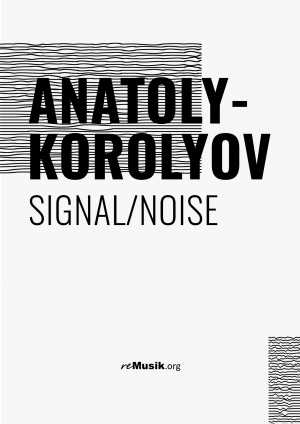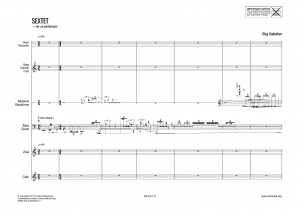Юрий Акбалькан:
«Искусство не должно быть изолированным»
Юрий Акбалькан:
«Искусство не должно быть изолированным»
В интервью журналу reMusik.org композитор Юрий Акбалькан рассказал о премьере пьесы с политическим аспектом и о своём восприятии 90-х, о работе в Германии и о преимуществах и недостатках импровизации.
— На фестивале reMusik.org прозвучит ваша пьеса «ричеркар» для перформеров, видео, сенсорной и интерактивной электроники. Расскажите о грядущей премьере.
Я использовал название «ричеркар» в его первичном значении – как «поиск», «изыскание». В этой пьесе есть сенсорная составляющая, где звук или видео реагирует на движение исполнителей, и есть фиксированные медиа. Изначально я рассматривал другой вектор развития материала, но в связи с перенесением всех событий фестиваля в цифровое пространство он стал более интерактивным. Небольшой спойлер: в этой пьесе есть политический аспект. Меня очень сильно возмутила ситуация с нашей Конституцией, это обнуление президентских сроков. Я не глубоко политизирован, но такое, честно говоря, сложно проигнорировать. Поэтому в «ричеркаре» есть часть, которая так и называется – «обнуление», где искусственно синтезированный голос требует идентификации от исполнителей, которые должны подтвердить путинизм. Только после этого музыканты могут завершить пьесу.
— Вы иронизировали над ситуацией?
Нет. Я пытался представить процесс обнуления как некий сакральный акт. То есть, это никакой не мем. Это такая антиутопия, перевёртыш наоборот – как сама ситуация нарушения международного права.
— У вас есть и другая работа, посвящённая политическому событию – проект «ПУСТ*», который отсылает к событиям 7 и 8 декабря 1991 года, во время которых было сформулировано Беловежское соглашение.
Да, этот проект был инициирован Гёте-институтом в Санкт-Петербурге в рамках Междисциплинарной лаборатории в области новой музыки, современного танца, театра и новых медиа. Здесь объединились актёры, режиссёры, кураторы, композиторы, музыканты из бывших стран СНГ, образовавшие небольшие творческие группы и выбравшие индивидуальные темы для своих проектов. Идея взять политическое событие, ознаменовавшее конец СССР как геополитической реальности, принадлежала белорусскому художнику Сергею Шабохину, который в нашей группе отвечал за дизайн и концепцию. Я занимался звуком, Снежана Виноградова – видео-документацией, Александра Портянникова – хореографией. Позже к нам также присоединились: Дарья Плохова (в составе танцевального кооператива «Айседорино горе»), Никита Голышев (в составе арт-группы VOLNA) и звуковой художник Сергей Костырко – в качестве разработчика программируемого цифрового синтезатора, созданного специально для этого проекта. У нас, к счастью, не было такого Режиссёра Режиссёровича, мы всё обсуждали друг с другом сами.
— Что вы помните о 90-х?
Я вырос в постсоветский период, когда была сломана гигантская идеологическая машина, но ещё не была построена новая, которая есть сейчас. Мне не больно было говорить о том времени, поскольку я был тогда маленьким. Никаких сожалений и никакого трагического подтекста у нас не было: наша дистанция от этого события оказалась большим преимуществом. Сейчас многие понимают, что происходит в нашей стране, но ничего при этом не делают, ничего не хотят менять. Нет системы чёткой артикулированной позиции – и это отголосок 90-х. Помню, в школе учителя говорили: «Вы, конечно, читайте, но в учебниках есть цитаты Маркса, Энгельса, вставки из Ленина, так вот это вы фильтруйте». У нас происходило автоматическое формирование восприятия реальности, когда ты понимаешь, что нет доверия к своей стране. В 90-е мы выросли в сомнении.
Так вот, в проекте «ПУСТ*» наша команда прорабатывала эти ощущения, мы не хотели просто документировать или поверхностно критиковать это событие. Первая часть резиденции прошла в лесу Шварцвальд, вероятно, известному многим по сказкам братьев Гримм. А вторая часть – собственно, в Беловежской пуще. Таким образом, мы решили сконцентрироваться на первобытном импульсе, дикости внутри человека и дикости в политике. Это был очень важный для меня опыт.
— Как вы считаете, художник должен быть вне политики?
Это хороший вопрос. Знаете, у нас с коллегами было много дебатов, обсуждений по этому поводу. Я скажу так: искусство не должно быть изолированным, не должно быть стерильным. Быть политизированным или нет – это выбор художника и одновременно гражданина. Вспомним Арсения Авраамова и его «Симфонию гудков». До этого уникального проекта он предлагал Луначарскому разработку микротонового инструмента, хотел на полном серьёзе утилизировать все равномерно темперированные инструменты СССР и внедрить новые, полагая что через 50 лет люди будут слышать по-другому. Этот факт наглядно показывает акт социальной утопии и, в некотором роде, насилия. Мы не абстрактные единицы или точки, политическая ситуация так или иначе влияет на нас. Да, вы можете высказываться, но помните, что у вас есть своя ответственность.
Есть удивительные художники в широком смысле, которые совершенно тематически изолированы от политических событий, но при этом создают очень актуальные произведения – это несёт другой уровень, какой-то синтез по ту сторону, напоминает абстрактное, но аффективное философское размышление. И эта абстракция гораздо сильнее действует на нас, чем прямое высказывание – «вот я показываю, как ОМОН избивает граждан, смотрите как это плохо, сейчас я вставлю резкий звук для наглядности». Мы и так это видим каждый день. Искусство искусственно.
— Вашу пьесу на фестивале reMusik.org будет исполнять немецкий ансамбль Adapter. Что вы можете сказать про этот коллектив?
Мне интересна форма, с которой работает Adapter. Это мобильный ансамбль, состоящий из четырёх человек. Несмотря на то, что у этого коллектива есть конкретная инструментальная спецификация (кларнет, перкуссия, флейты, арфа), каждый из них очень гибкий музыкант, который может примерить на себя разные роли (например, перформера, вокалиста), что очень часто требуется в современной музыке и, конечно же, в исполнительской практике. Эта ансамблевая гибкость даёт мне как композитору большие возможности.
— В своей музыке вы исследуете аспект взаимодействия цифрового, аналогово и акустического источников звука, интеграции звучащих объектов в публичное пространство в контексте урбанизации и невербальных коммуникаций. Как именно это происходит?
Что касается взаимодействия цифрового, аналогово и акустического, мне интересен эффект, порождающий взаимодействием этих составляющих. Это образует сопротивление материала в том смысле, в котором о нём говорил Жерар Гризе. В одном из интервью на вопрос, почему он не углубляется в электронную музыку, а предпочитает акустическую, композитор ответил, что в электронике ему не хватает сопротивления материала, который возникает, когда вы, например, проводите смычком по инструменту и получаете звук/скрежет. Мне нравится комбинировать и акустические, и электронные составляющие.
Если говорить о невербальных коммуникациях в контексте городской среды, то на этом я был сконцентрирован раньше. Несколько лет назад, например, я вёл мастер-класс в Петербурге, участники которого совершали звуковые интервенции в публичные пространства. Мы брали генераторы звуковых волн, свои айфоны и шли в ТЦ «Галерея», чтобы свободно «путешествовать» по этому пространству. Мы просто включали высокочастотные синусы и многие, кто слышал их, оборачивались, не понимали, что происходит (особенно смешно было наблюдать за охранниками). Это был такой интересный «лабораторный» опыт взаимодействия звука с внешним пространством.
— Сегодня многие молодые композиторы отдают предпочтение импровизационной музыке или музыке с использованием объектов. Почему, как вы думаете?
После консерватории я много размышлял об иерархии в музыке. Композитор – некий демиург, он создаёт и компонирует, в каком-то смысле исполняет роль абстрактного Создателя. Далее по иерархии находится дирижёр, который руководит коллективом исполнителей. Следом – исполнители, которые исполняют волю композитора и дирижёра, транслируют художественное высказывание реципиентам и слушателям. Помимо них, есть институции, которые спонсируют и поддерживают весь этот механизм. То есть, всё, что я перечислил – это, по сути, иерархия потребления. Тогда я даже рефлексировал на тему авторства (хотя это достаточно поздняя концепция). Поэтому на какой-то период я полностью переключился на импровизацию. Я размышлял следующим образом: если «традиционная» композиция складывается в замкнутую систему, состоящую из иерархических составляющих, то в импровизации каждая языковая единица (в данном случае, музыкант) складывается в коллективное с другими единицами. С точки зрения математической логики, это предполагает большее число комбинаций и, как следствие, больше возможностей.
— А какие, на ваш взгляд, слабые места в импровизации?
Я думаю, форма. В композиции вы можете заключить вашу интенцию в некую структурную решётку – даже если она «горячая», насыщенная событиями, вы всё равно контролируете её. А в импровизации аффектированы собственной физиологией. Импровизация – такое «дионисийское», а композиция – «аполлоническое». Поэтому я прекрасно понимаю интерес композиторов к импровизации: это физиологично, увлекательно. Это как попить кофе – в импровизации мы общаемся. Мы не сидим на высоколобых собраниях, мы встречаемся и создаём звук, это ментальная практика, медитация.
— Говоря о медитации, вспоминается ваш видеоперформанс «Музыка для игральных костей». В чем здесь идея?
«Музыка для игральных костей» имеет текстовую партитуру. Исполнитель перебирает в одной руке две игральные кости, потом передаёт их в другую руку (выпадает определённое число, конвертируемое в тишину, паузу), затем снова передаёт в другую руку и так бесконечно. Для меня это одна из главных моих работ, которая открыла для меня многие вещи. Здесь важно тактильное ощущение – то, что вы чувствуете, касаясь игральных костей, вслушиваясь в сам процесс. Эта пьеса не только про звук, но и про перцепцию.
— Многие композиции такого рода имею большую протяжённость по времени – иногда и больше двух часов. Зачем нужен такой временной континуум, если композитор заранее знает, что это будет большим испытанием для исполнителя и для слушателя?
Я уверен, что композиторы, которые много работают с протяжёнными временными структурами, элементами импровизации и тишиной, не ставят перед собой цель создать зону слушательского дискомфорта, скорее, наоборот. Никто никого не обязывает вслушиваться или терпеть, если вам это не нравится. В конце концов, у всех разный темперамент, природа восприятия и культурный бэкграунд.
— Что, на ваш взгляд, сегодня сложнее – написать пьесу для электроники, перформеров, объектов или одно сочинение в «классическом» жанре?
Вопрос не в сложности – вопрос в том, как вы выражаете себя. Если вы сформировались и мыслите в академическом русле, то вам, вероятно, будет комфортнее работать с «классическим» материалом (хотя искусство – это вообще не про комфорт). Это всё равно что отвечать на вопрос: «Кого вам больше нравится гладить – собак или кошек?» То есть, это предпочтение каждого. И речь здесь не о технике, неважно какими средствами вы пользуетесь – важно, как вы это делаете.
— Готовясь к интервью, нашла рецензию Петра Поспелова на вашу пьесу «Фабрика игрушек»: «“Фабрика игрушек” Юрия Акбалькана (та фабрика, на которой, вероятно, сделали “Новую куклу” малолетнему герою Чайковского) и вовсе обошлась без участия музыкантов: их заменили заводные тараканы, с приятным зудением ползавшие по струнам оставленных на сцене инструментов». Почему именно такие «исполнители»? Был ли в этом элемент провокации, эпатажа?
Нет, никакого эпатажа я не подразумевал. Это просто баловство. Заводные тараканы – это не символ чего-либо, здесь нет ничего серьёзного и концептуального. «Фабрика игрушек» была написана для проекта МАСМ’а. На концерте музыканты исполняли пьесы современных композиторов в паре с пьесами из «Детского альбома» Чайковского – мне досталась «Новая кукла» и я решил обыграть идею игрушки, как заводного механизма.
— Ваша музыка среди прочих звучала на открытии Новой сцены Александринского театра. Как вы оцениваете деятельность Александринки сегодня?
Поскольку я сейчас не живу в России, то не так слежу за проектами Новой сцены, но опираясь на опыт, могу сказать, что в 2013 году мы все были рады, когда появилась такая достаточно крупная площадка для нового искусства. Там происходило много важных проектов в звуковой сфере – том числе, благодаря работе «Лаборатории новых медиа» и «Галереи плавающего звука». Это вносит позитивный аспект в развитие культурной жизни Петербурга, однозначно.
— Новая сцена Александринки, Музей Звука и «Новая Голландия» – по сути, три площадки, внутри которых живёт новая музыка в Петербурге. Как вы думаете, почему процесс интеграции новой музыки здесь отстает по сравнению с Москвой?
Я бы так не диагностировал. Москва и Петербург – это совершенно разные места, разные темпы жизни. В Петербурге больше андеграундных площадок, поскольку не так много поддержки от институций. Одна из причин – та самая гоголевская «местечковость», когда у тебя друг или знакомый занимает высокую должность и поэтому поддержка на государственном уровне тебе обеспечена. Отсюда и отсутствие здоровой конкуренции между проектами. Есть отличные фестивали и проекты, которые никак не поддерживаются, а есть откровенно слабые, но со своим финансированием, полученным через знакомства.

— Вы уже несколько лет живёте в Германии. Почему именно в этой стране? Что именно вам не хватало в России?
Вообще, у меня никогда не было желания эмигрировать и мой переезд не был продиктован намерением во что бы то ни стало уехать из страны (я до сих пор считаю, что в России есть большой потенциал и пространство для развития, в том числе и в музыкальной сфере, – здесь многое не реализовано). Я уехал в Гамбург, потому что там находится мультимедиа департамент, где работает международная команда профессоров и ты как композитор получаешь тот самый практический опыт.
В Москве или Петербурге, к сожалению, нет возможности изучать программное обеспечение на таком уровне, и осваивать различный инструментарий в контексте мультимедийной композиции. Что говорить, у композиторов даже нет своего кода в реестре профессий (этот реестр, кстати, пересмотрели после Беловежского соглашения). Я как-то выступал на конференции с темой, которая так и называлась: «Код профессии: [не найдено]». В России профессия «композитор» должна была бы находиться где-то между конюхом и комплектовщиком – если обратиться к перечню, – но и этого вы там не найдёте, что, конечно, смешно и грустно одновременно. По сути, если у профессии нет кодового номера, то каким образом можно дать её представителю какие-то государственные заказы? И как это регламентируется на юридическом уровне? Поэтому неудивительно, что многие композиторы зарабатывают не сочинением музыки, а чем-то другим. Но я не кухонный революционер, я ищу выход в своей ситуации, ориентируясь на внутренние представления. Подытожу: жизнь невероятно многообразна и мне в принципе интересен мир, будь это Германия, Россия или Монголия.