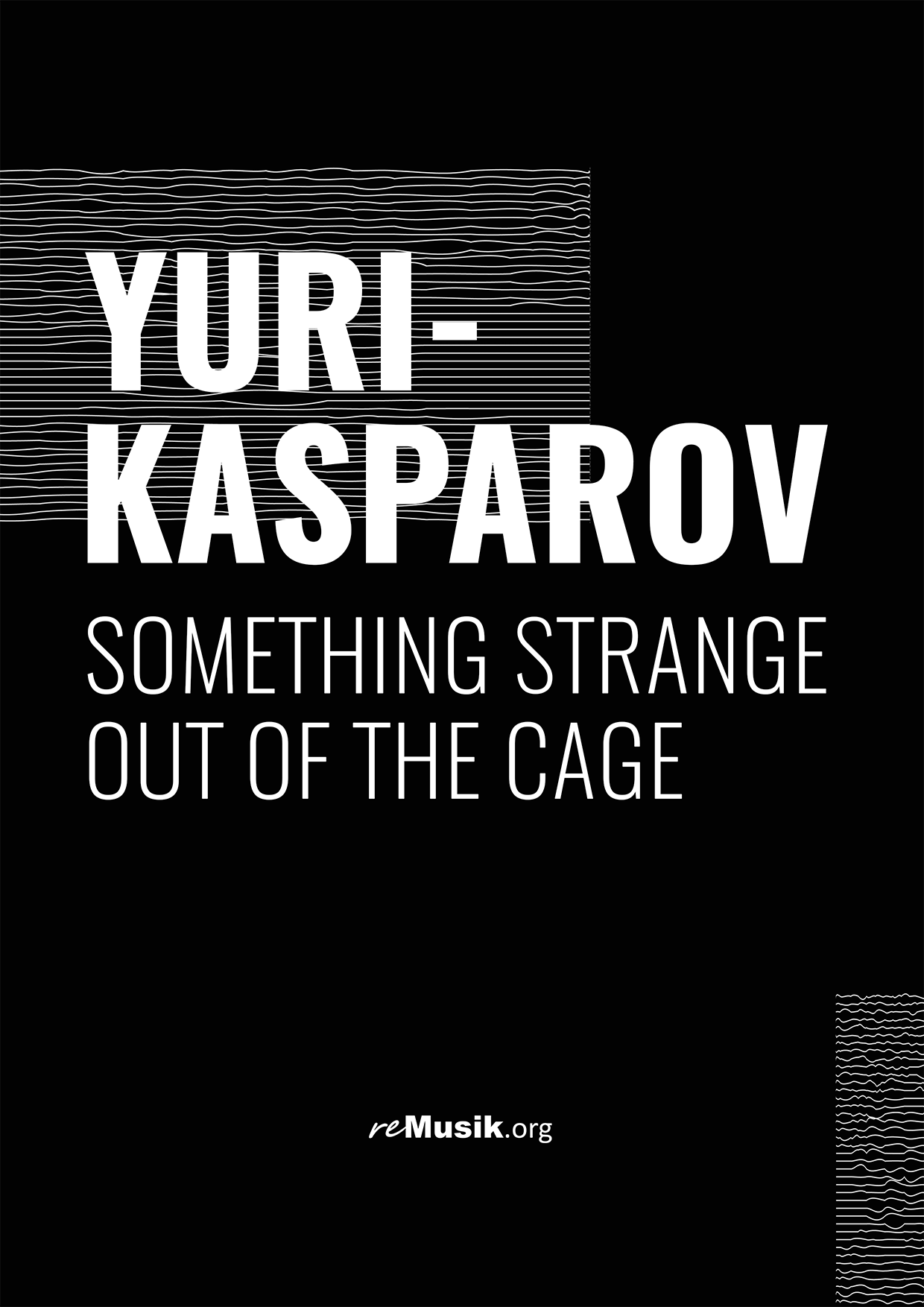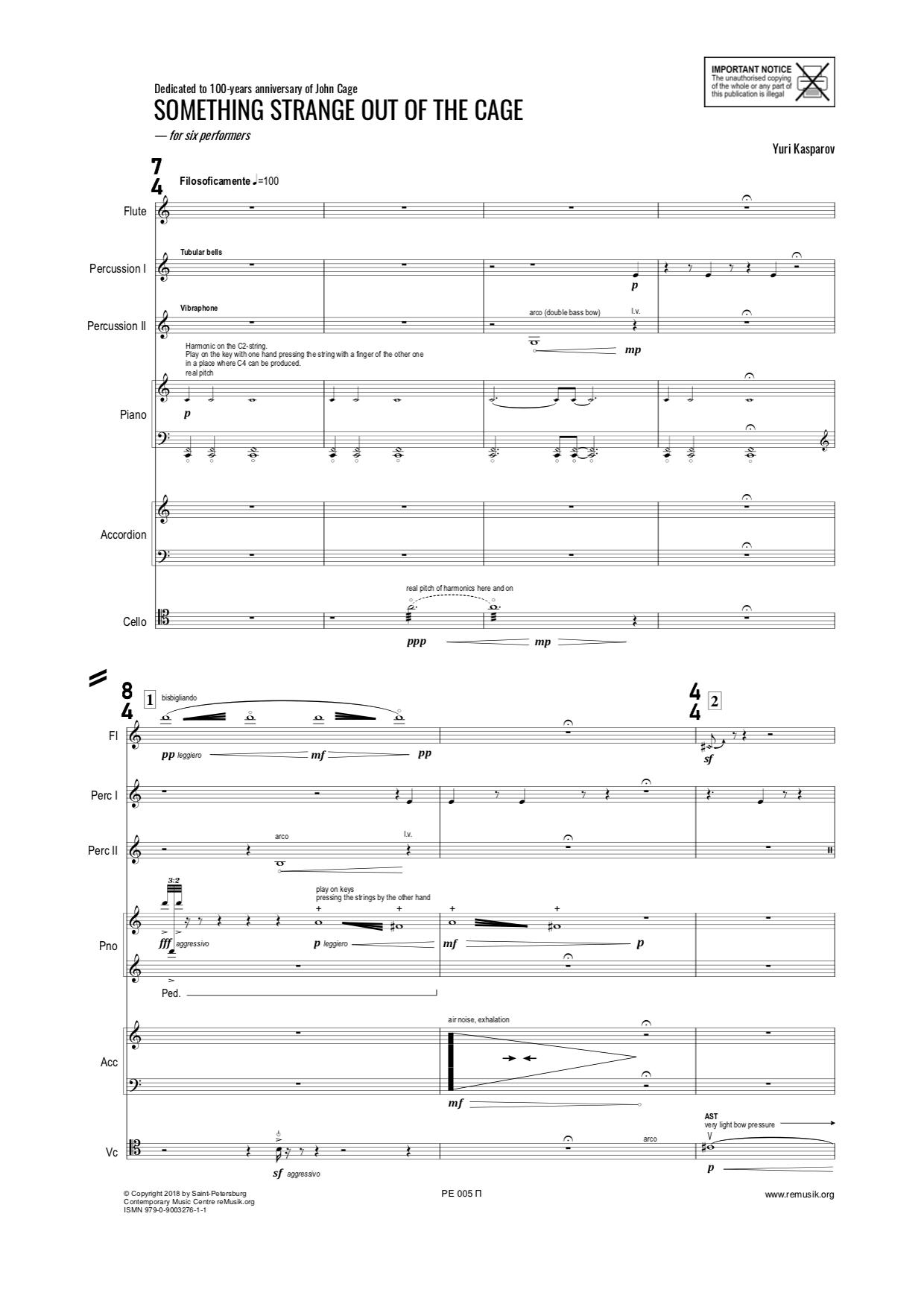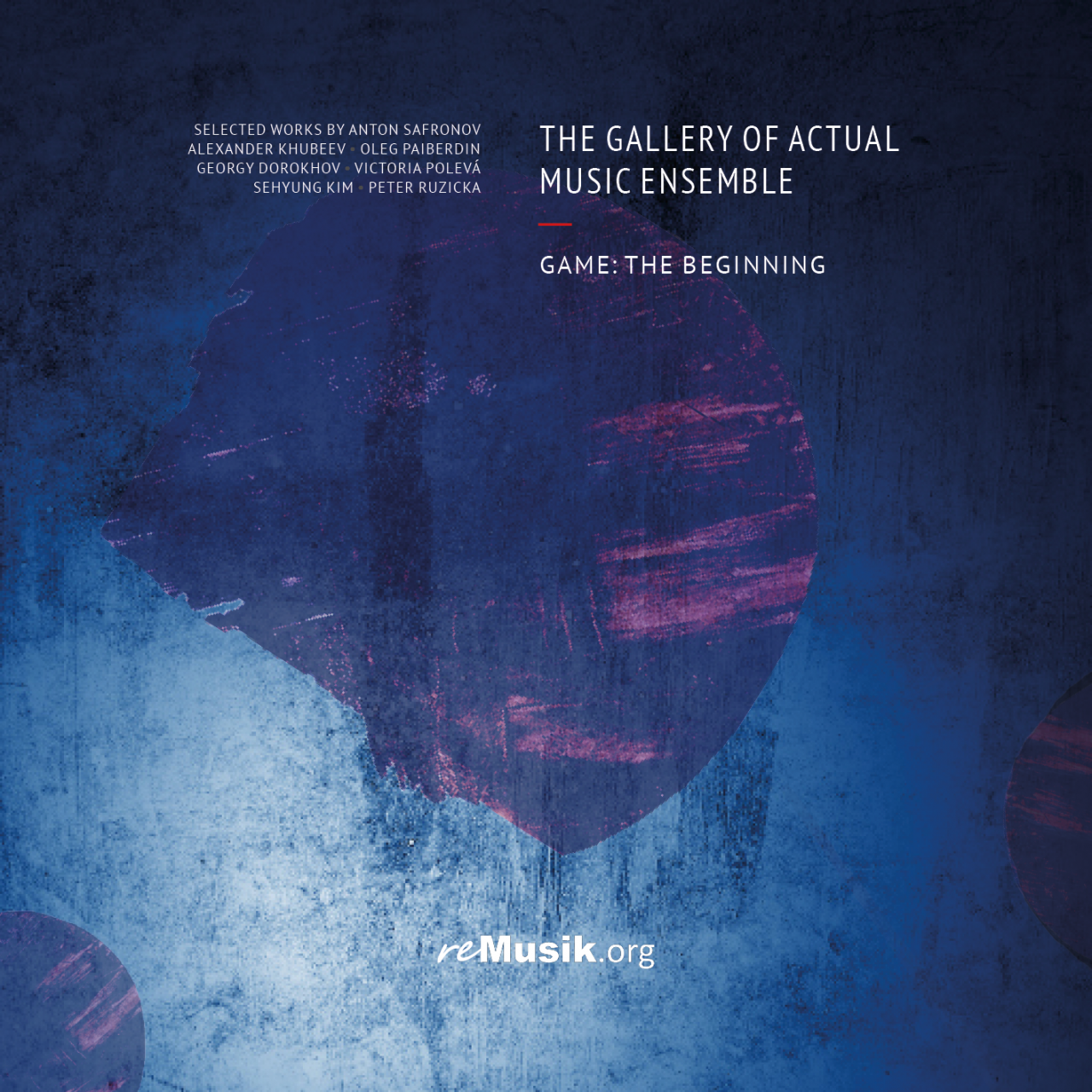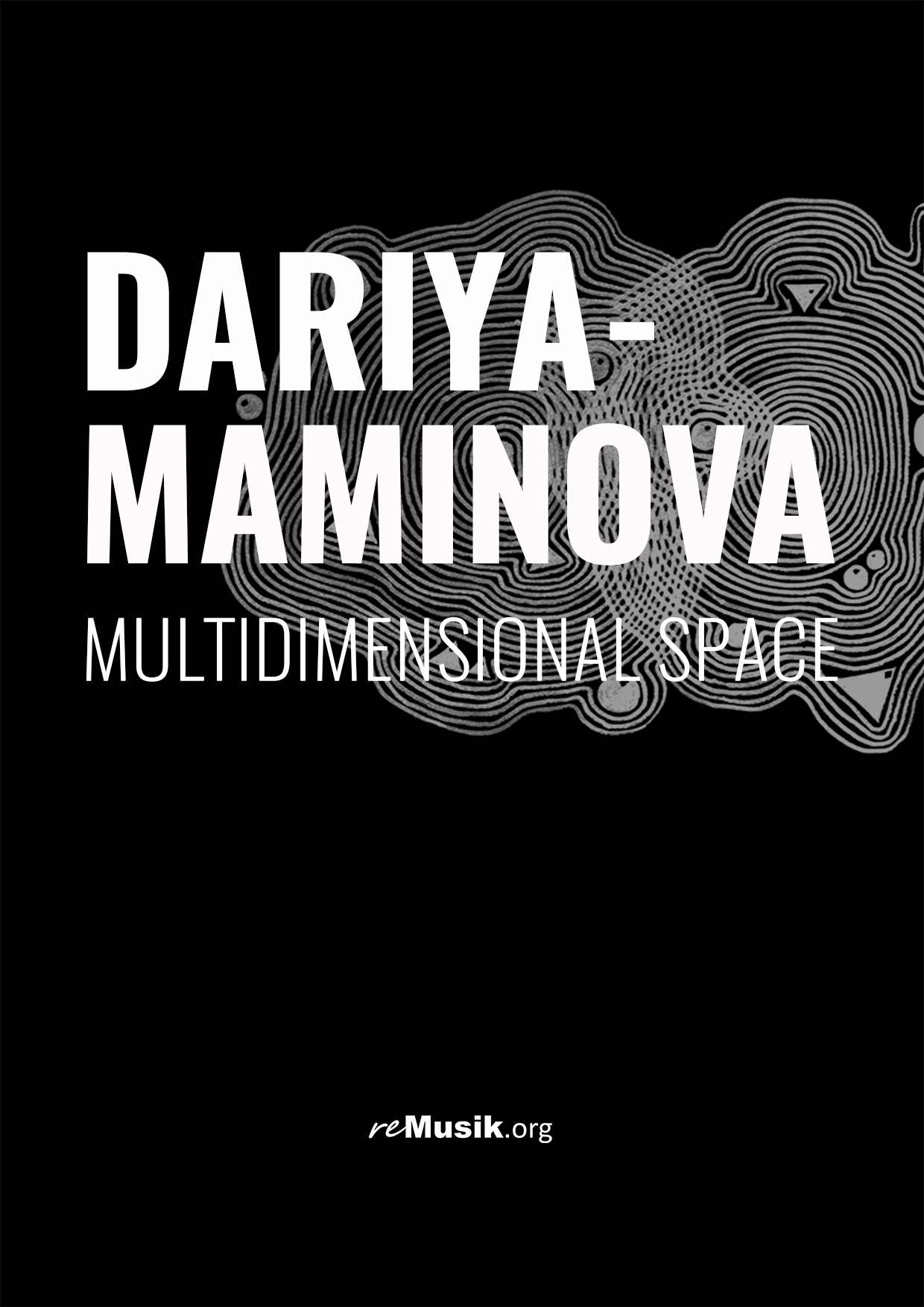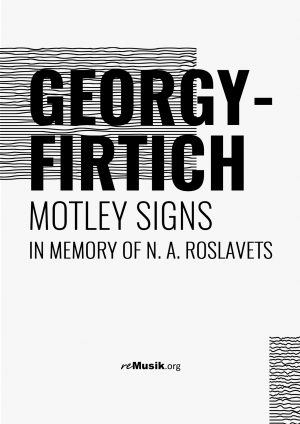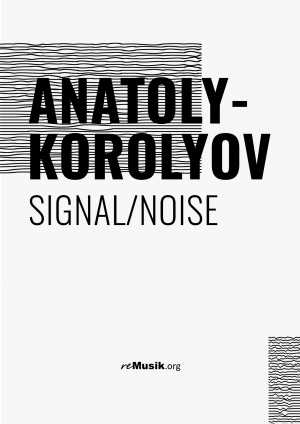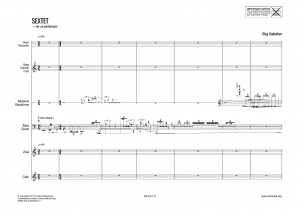Татьяна Бершадская. Голос российской теории музыки
ХХ и XXI веков
Татьяна Бершадская.
Голос российской теории музыки ХХ и XXI веков
Интервью с одним из старейших музыковедов, музыкант-теоретиком, заслуженным деятелем искусств России, профессором Санкт-Петербургской государственной консерватории имени им. Н. А. Римского-Корсакова Бершадской Татьяной Сергеевной провел Центр современной музыки Санкт-Петербурга «reMusik.org».
— Каково в настоящее время положение в теории музыки? Можно ли говорить о каком-либо теоретическом учении, как о всеобще (хотя бы в пределах одного континента) принятой концепции музыкальной системы, подобно, например, концепции мажоро-минора в XVIII—XIX столетии? Если нет, то какие теоретические школы (или направления) могли бы назвать?
На такой глобальный вопрос мне трудно ответить сразу. Я могу сказать лишь, что такую всеобще принятую теорию, какой была теория мажоро-минора, в настоящее время мы вряд ли найдем. Потому что слишком много направлений в самом художественном творчестве, а любая теория всегда рождается, как обобщенние художественных находок композитора. И сейчас это настолько пестро, если взять даже только европейский континент, что трудно представить себе какую-то единую, сложившуюся концепцию. Могу сказать, что сейчас и у нас, и особенно в зарубежной теории музыки, происходит некая подмена представлений о музыкальной системе как о законах, рожденных интонационной сущностью музыки, на представление о ней как сумме различного рода композиторских техник. И вот этим сейчас очень сильно заняты и зарубежные композиторы и музыковеды, и современные отечественные, чему свидетельством является хотя бы, недавно, вышедшая книга московских авторов «Теория композиции XX века». Ведь по существу в ней речь идет именно о техниках. И в этом отношении название книги Когоутека («Техника современной композиции»), направление которой она по существу продолжает, кажется мне более точно отвечающей своему содержанию. А я лично очень четко различаю понятия «техники композиции» и законов, порождаемых «интонационной сущностью» музыки. И в этом отношении, как мне хочется думать, я являюсь истинным последователем отечественного направления теории музыки. Думаю, что имею основание утверждать, что российская теория в целом больше, чем зарубежная опирается на изучение именно самого интонационного процесса в музыке. Начало было положено на рубеже XIX и XX веков Б.Л. Яворским и Б.В. Асафьевым. Они заговорили об интонациии как о существеннейшей стороне музыки. И вообще, надо сказать, что концепции процессуальности, функциональности – типичны для российской теории музыки.(Конечно, я могу, в данном случае и ошибаться, потому что, к своему стыду, не могу сказать, что блестяще изучила все напрвления зарубежной теории музыки. Я говорю о том, какой она мне представляется).
По словам Т.С. Бершадской наша отечественная теория музыки, отличается своим вниманием к процессуальности, к функциональности, к некой системности собственно интонационного процесса. Это и теория «музыкальной формы как процесса», которая нашла свое блестящее воплощение в трудах Асафьева, это теория функциональности и переменных функций Юрия Николаевича Тюлина; это концепция Х.С. Кушнарева, который впервые заговорил о монодических ладах как о системе, в своей функциональной организованности вполне равноценной мажорно-минорной гармонической системе. Х.С. Кушнарев впервые заговорил о монодических ладах как полностью функциональной системе – до него, монодийные системы рассматривались приимущественно с позиций, скорее, звукорядных, нежели функциональных. А Х.С.Кушнарев установил определенные, специфичные для монодийных ладов функции и, тем самым, по суждению Татьяны Сергеевны, совершил открытие в теории музыкальных систем.
Так что роль нашей отечественной теории музыки в области Теории музыкальной системы и, прежде всего, лада (понятия, до сих пор не получавшего вполне тождественного термина и определения в зарубежных концепциях), на мой взгляд, неоспорима.
— Татьяна Сергеевна, Вы очень ярко обрисовали положение дел в самой сущности теории музыки. Как Вам кажется, отражается ли это положение на терминологии, которая действует сейчас в музыкальной науке?
По этому поводу я могу напомнить одну мудрую фразу Николая Гавриловича Чернышевского, который говорил, что «о состоянии науки свидетельствует состояние её терминологии». Так вот, в этом смысле можно сказать, что наша музыкальная наука, представляет собой, давольно печальную картину. Наша терминология абсолютно не упорядочена, пестрит множеством названий и терминов, которые теоретики, иногда даже одного направления, понимают по-разному; или, наоборот единым термином обозначают разные явления. И в этом смысле наша терминология заставляет судить о музыкознании как о науке, пока ещё очень несовершенной.
Татьяна Сергеевна считает, что именно выработка четкой терминологии – это первейшая задача, или во всяком случае одна из первейших задач теории музыки, которая должна быть выполненна хотя бы для того, чтобы музыковеды и музыканты понимали друг друга в достаточной степени. По мнению Т.С. Бершадской это у нас сейчас, к сожалению, не наблюдается. И это ещё раз подчеркивает ситуацию — отсутствия единой, так сказать, общепринятой концепции. На многие вещи музыканты смотрят совершенно по-разному. И вот на выработку какой-то, хотя бы в неких исходных позициях единов концепции, а вслед за тем и терминологии, как считает Татьяна Сергеевна, должны быть направлены усилия наших музыковедов.
— Татьяна Сергеевна, скажите пожалуйста, какие наиболее яркие имена в российской музыкальной теоретической школе Вы могли бы назвать?
Ну, Вы знаете, ярких имен, очень много. И я, конечно, могу говорить прежде всего, о тех людях, которых я знала, с которыми общалась. Прежде всего о своей Санкт-Петербургской, а точнее сказать Ленинградской консерватории (потому что для меня она, все-таки в первую очередь, остается Ленинградской). Это, конечно, школа гармонии Юрия Николаевича Тюлина, который является основоположником концепции переменных функций и общей функциональности и системности вообще. Функция (прежде всего- ладовая), которая классической теорией понималась как незыблемое свойство конкретного аккорда в конкретной системе, оказалась подвижной, стала участницей процесса. Эту идею процессуальности Ю.Н. Тюлин перевел на все аспекты музыки. Когда Юрий Николаевич говорит о переменности функций, то подразумевает это не только применительно к гармонии и ладу, но и к функциональности формы, что смыкается с Асафьевским пониманием формы как процесса. И хотя это не было зафиксировано им в каких-то определенных работах, но мы, его ученики, постоянно слышали об этом на его уроках. И это было подхвачено и развито как общие проблемы функциональности в музыке в работах Анатолия Милки, как проблема функциональности и переменности функций формы в работах Виктора Бобровского. Все это идеи, которые были сформулированы как общий принцип именно Юрием Николаевичем Тюлиным. О роли Б.В. Асафьева как радоначальнока концепции интонации я уже говорила.
Ярчайшая фигура XX века, например, Лео Абрамович Мазель, чудейснейший музыкант, аналитик, теоретик московской школы. Работавший с ним параллельно и даже совместно, также аналитик Виктор Абрамович Цуккерман, «проповедник» «целостного анализа» музыкальных произведений.
По мнению Татьяны Сергеевны Христофор Степанович Кушнарев – великий мастер, композитор, знаток полифонии и создатель особого метода преподавания строго стиля. Но самое главное, в его наследии, как полагает Татьяна Сергеевна,– это открытие им теории монодических ладов, которую он создал на материале «своем», национальном (армянской монодической музыки), но которая, конечно, далеко перешагивает эти узкие национальные рамки и открывает законы многого, в том числе – многого в современной музыки. Теория Х.С. Кушнарева, по словам Т.Бершадской перекликается с учениями различных национальных культур, например, с теорией ладов монодии Ближнего Востока. У Татьяны Сергеевны есть очень много свидетельств того, что и Дальний Восток (Монголия, Китай) откликаются на эту концепцию. Она думает, что может быть, эти теоретики, не знали работу собственно Х.С. Кушнарева, а ориентировались уже на её интерпритацию данной концепции. Татьяна Сергеевна получала много писем и из Монголии, и из Китая с откликами, благодарностями и т.д. Все это показывает, насколько концепция Х.С. Кушнарева действительно общезначима.
Этих людей Т. Бершадская назвает, в первую очередь.
Татьяна Сергеевна полагает, что очень интересные работы, есть у Юлии Евдокимовой, хотя школой, по ее мнению, это пока трудно назвать, «потому что речь идет об очень молодом человеке, к сожалению, рано покинувшем этот мир». У Евдокимовой есть работы по полифонии очень, по суждению Татьяны Сергеевны, интересные, которые на многие вещи, заставляют нас посмотреть иначе, чем это было принято традиционно.
Конечно,Т.Бершадской ближе всего проблемы гармонии и лада. И тут, она не может не сказать о Юрии Николаевиче Холопове, ярчайшем музыковеде, создавшим огромную школу (в данном случае Татьяна Сергеевна имеет в виду степень распространенности его концепции, которая была подхвачена на всем пространстве российском). Другой вопрос, её отношение к его концепции. У Т. Бершадской есть к ней свои претензии. Татьяна Сергеевна с ней не соглашается во многих коренных положениях, прежде всего в его отрицании материальной субстанции гармонии, которое, на её взгляд, порождает много путаницы. Она с этим не согласна. Скоро у Т.Бершадской должна выйти небольшая книжка, где она говорит об этом (о своих возражениях Ю. Холопову) в достаточной степени подробно. Но это уже, по словам Т.Бершадской, «наши расхождения во взглядах, а фигура Ю. Холопова – несомненно ярчайшая». Вот это те имена, которые Татьяна Сергеевна называет, так сказать, в первом приближении.
Это очень трудно сходу отвечать на вопросы о своих коллегах. Всегда есть опасность, что кого-то забудешь, кого-то не назовешь, и я заранее прошу у мойх коллег простить мне возможные оплошности. Если я кого-то не назвала, то не потому, что я их не признаю или не хочу учитывать их точки зрения, а просто потому, что называю те имена, с идеями которых я постоянно и непосредственно связана.
— Каково основное направление Ваших работ?
Мои интересы, развивались в процессе и обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности. Но могу сразу сказать, что прежде всего, все это – проблемы музыкального языка, музыкального интонирования и музыкальной звуковысотной системы.
Я начинала как приверженец проблем гармонии, занималась в классе Николая Георгиевича Привано, а потом – Юрия Николаевича Тюлина.
В центре внимания Татьяны Сергеевны стояли проблемы гармонии и формы. Её дипломная работа была посвящена «комплексному анализу» симфоний Дворжака. С этим она поступила в аспирантуру к Ю. Н. Тюлину. Потом, в силу совершенно объективных причин (Юрий Николаевич Тюлин внезапно переехал в Ташкент), Татьяна Сергеевна попадает в класс Христофора Степановича Кушнарева. И это определило вообще все её дальнейшие интересы и работы, всё её дальнейшее существование. Диссертация (кандидатская) Т. Бершадской касалась многоголосия русской народной песни. На эту работу Татьяны Сергеевны, которая была напечатана в 1961г. , до сих пор ссылаются и за рубежом, и внутри страны, хотя она себя считает вовсе не фольклорист-этнографом. Она изучала народную песню и ее многоголосие только, как собственно музыкальный материал.
Но вот общение с Христофором Степановичем и соединение того, что мне дал Христофор Степанович с тем, что у меня было воспринято от Ю.Н.Тюлина – породило все мои дальнейшие изыскания и дало направление моим наблюдениям и обобщениям. Я занялась общими проблемами музыкальной системы, прежде всего проблемами лада. И в последнее время в основном я занимаюсь больше всего ладом. Меня заинтересовала проблема лада как всеобще обязательной, языковой категории музыки, действенной вне зависимости от того, есть твердая тоника или ее нет. Я все больше и больше прихожу к убеждению и продолжаю на этом настаивать что вне лада осмысленной музыки быть не может, и что ладовая система и ладовая организация для музыки также непременна как грамматические соподчинения для вербального языка. Кстати, структурные аналогии между языком вербальным и музыкальным – это одно из направлений моих сегодняшних размышлений. У меня даже есть на эту тему статьи. Именно такое представление о ладе вывело меня на концепцию лада как всеобщей языковой системы музыки, действующей в самых разных формах и одноголосия и многоголосия, монодии и многоголосных текстов.
Одним из важных положений, которое я могу считать своей находкой, это представление о носителе, информаторе ладовой функции. То есть о такой структуре, которая одна способна информировать нас о функциональном значении данного звучания. Так, в классическом мажоро-миноре тон единичный не является информатором ладовой функции, на это способен лишь аккорд. А в монодии тон суверенен, и никакой аккорд для подтверждения его ладовой функции не требуется. Наоборот, в музыке, развивающейся на основе монодийных интонаций, даже многоголосно, тон может диктовать функцию созвучно. Я разделяю ладовые информаторы на три вида: тон, аккорд и, наконец, тон, окрашенный таким аккордом, который сам по себе, не является функциональным определителем. Это, мне кажется, никем пока не отмечалось. Потому что концепции роли мелодических связей и организация системы как мелодически связанных аккордов существовали очень давно. Об этом говорят и Рети и Персикетти, и многие другие. Но никто из них не ставят вопроса о том, что же в этом случае является выразителем функции, и тогда получается, что не будет разницы между, скажем, гармоней Бартока и гармоней Шопена в случае эллипсисов, т.е. движения, например, доминанты до мажора во второй септ фа мажора или фа минора. У Шопена мы четко слышим в каждой из этих точек функционально направленный аккорд. Я же говорю о другом: не а принципе связи, а о самой точке как носителе функции, который в монодийно-гармонических системах осуществляется не аккордом, а тоном. Аккорд может существовать, но не он выражает ладовую функцию. И вот этот момент я считаю весьма существенным в той концепции, которую я, обобщив то, что мне приходилось слышать от Ю.Н.Тюлина, Х.С.Кушнарева, обнаруживать при чтении Б.В.Асафьева, попыталась свести в некую единую систему. Во-первых, я твердо убеждена в том, что лад — всеобще действенная категория. Во-вторых, в том, что при этом мы никогда не сможем установить некое конечное число существующих ладовых систем. Я считаю, что ладовых систем столько, сколько существует музыкальных текстов, что наряду со стабилизирующимися стериотипами каждый текст может породить свою систему (как речевое преломление законов языка). Зато я предлагаю схему, по которой в каждом отдельном случае, можно рассмотреть и классифицировать возникшую систему. Я предлагаю ряд отдельных и важных показателей: тип функциональности, тип звукового материала, и то, и другое делится у меня на целый ряд подпунктов, каждый из которых в принципе можно продолжать до бесконечности; указаны, только направления характеристики.
Таково основное направление всех моих размышлений, в которых слились проблемы лада, склада многоголосия, мелодии, гармонии, полифонии и всех прочих форм музыкальной организации.
— Татьяна Сергеевна, расскажите нам пожалуйста, о военном времени консерватории?
Да, об этом я могу давольно много рассказать. Я всю войну и всю блокаду провела в Ленинграде и была очень тесно связана с консерваторией всё это время. Основной состав нашей консерватории в 20-х числах августа эвакуировался в Ташкент. Здесь осталось очень небольшое колличество людей, которые, как ни странно может показаться, продолжали учиться и учить. Я в это время была ученицей, студенткой второго курса (точнее, я только что перешла на второй курс).
С первых дней войны, пока еще все были здесь, мы сразу были мобилизованы в местные команды противовоздушной обороны. Я была в команде управления и связи при пожарниках. Так, в известной фотографии Шостаковича на крыше, где-нибудь можно, наверное, отыскать и меня, поскольку в это время я тоже была там. Это была как раз тревога, (пока, еще, учебная). Я хорошо помню ситуацию этого фотографирования.
Когда консерватория уехала, мы, оставшиеся, продолжали состоять в этих командах. У нас был штаб противовоздушной обороны. У меня сохранились напечатанные на папиросной бумаге удостоверения: я, Татьяна Сергеевна Бершадская являюсь бойцом команды управления и связи при консерватории. Две бумажки: одна за подписью П. Серебрякова ещё до эвакуации, вторая за подписью Тихомировой, которая была у нас начальником штаба, когда консерватория уже уехала.
Мы жили в консерватории «на казарменном положении». Домой отпускали один раз в несколько дней. По тревоге бежали на крыши и чердаки. Когда падали «зажигалки», то приходилось их тушить. Мои дежурства проходили главным образом на чердаках. Я до сих пор знаю наизусть по номерам все чердаки консерватории. Напрмер, 1-ый чердак находится в оперной студии, 3-ий, 4-ый – на пятом этаже Малого зала, 8-ой чердак — это пятый этаж учебного корпуса, там, где классы иностранной кафедры и т.д. Короче говоря, все это для меня, так сказать, живой материал.
Несмотря на то, что мы были членами команд, мы одновременно учились. У нас были классы, продолжались занятия. Кажется, если я не ошибаюсь, нас, студентов, здесь осталось тридцать девять человек. Недавно консерватория выпустила сборник «Ленинградская консерватория в годы войны» и там перечислялись те студенты, которые продолжали учиться. Я была в числе этих тридцати девяти.
Занятия у нас проходили при коптилках, все сидели в шубах и валенках, потому что консерваторию, как и все вообще, не топили. Соответственно, можно себе представить, что это было. Педагоги, когда играли на рояле, надевали такие перчатки с обрезанными пальцами, потому что иначе работать было невозможно. Клавиши были ледяные.
Историю музыки у нас читал Друскин Михаил Семенович, инструментовку – Рудольф Иванович Мервольф, анализ Владимир Верф. Кстати, все эти наши педагоги, кроме Михаила Семеновича, умерли в том же году от голода. Занимались и фортепиано. Екатерина Францевна Далговет, известнейшая в свое время пианистка, вела общий курс фортепиано, а потом, когда ее не стало, занятия продолжил вернувшийся с фронта,( где он потерял один глаз) Люблинский.
Итак, мы слушали лекции, но, если вдруг во время занятий объявлялась воздушная тревога, то все классы закрывались, и мы бежали по своим постам. Голодали, холодали, но продолжали заниматься. Консерватория жила.
Осенью 42-го года нас, оставшихся в Ленинграде, ждала большая радость. Из Ташкента наши товарищи организовали нам подарок: пришла посылка. Я не говорю о «стороне материальной» — для изголодавшихся ленинградцев рис и сухофрукты казались чем-то невероятным. Но главное было не в этом. Чувство товарищества, чувство «плеча» — «Нас не забыли!» — Это было главным. И как-то легче стало на душе.
Незабываем день снятия блокады, слова Левитана: «Граждане, Ленинградцы, обстрелы Вам больше не угрожают!» — этот день остается в памяти едва ли не ярче, чем 9 мая.
Осенью 44-го года Консерватория вернулась, и все постепенно стало восстанавливаться.