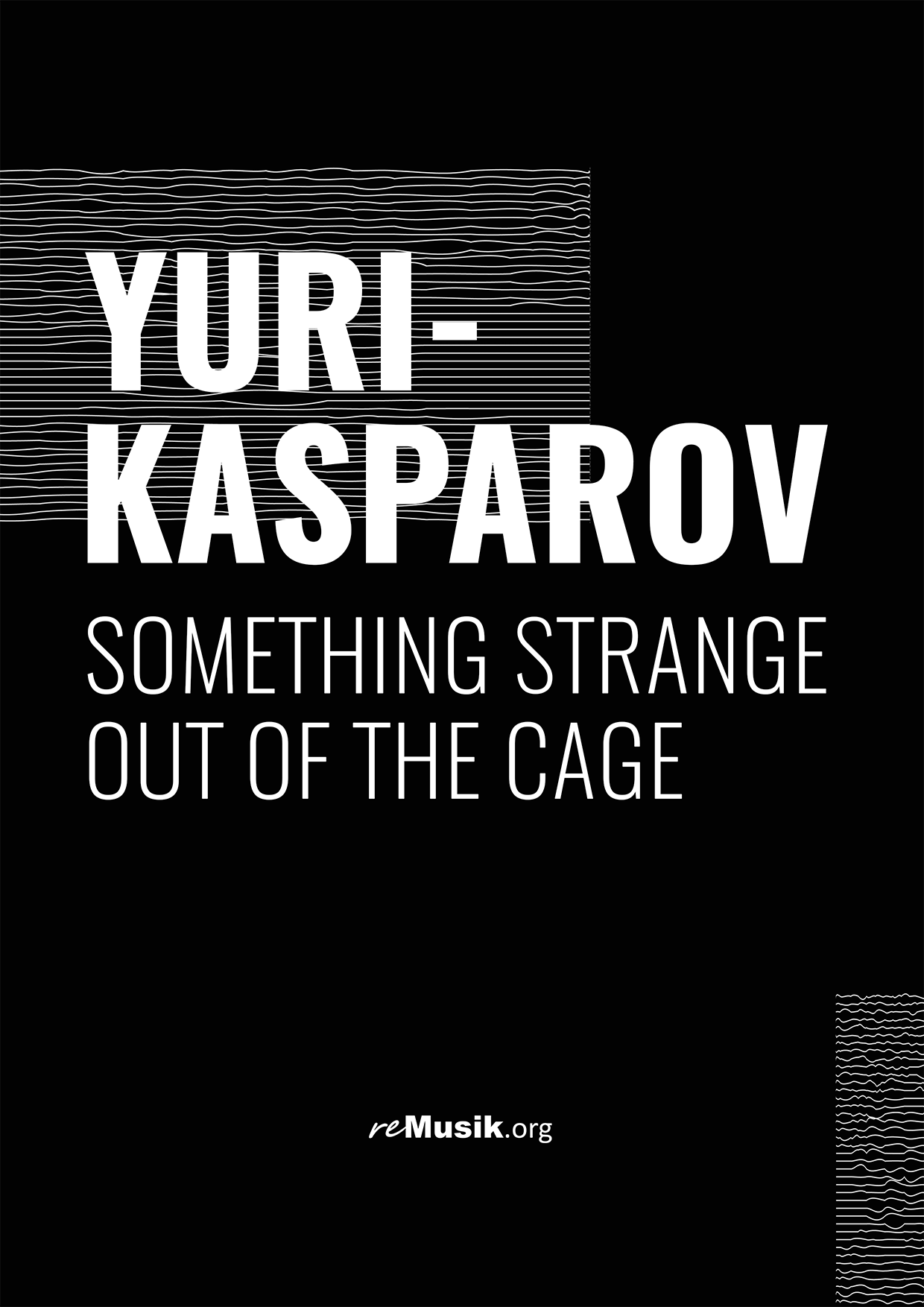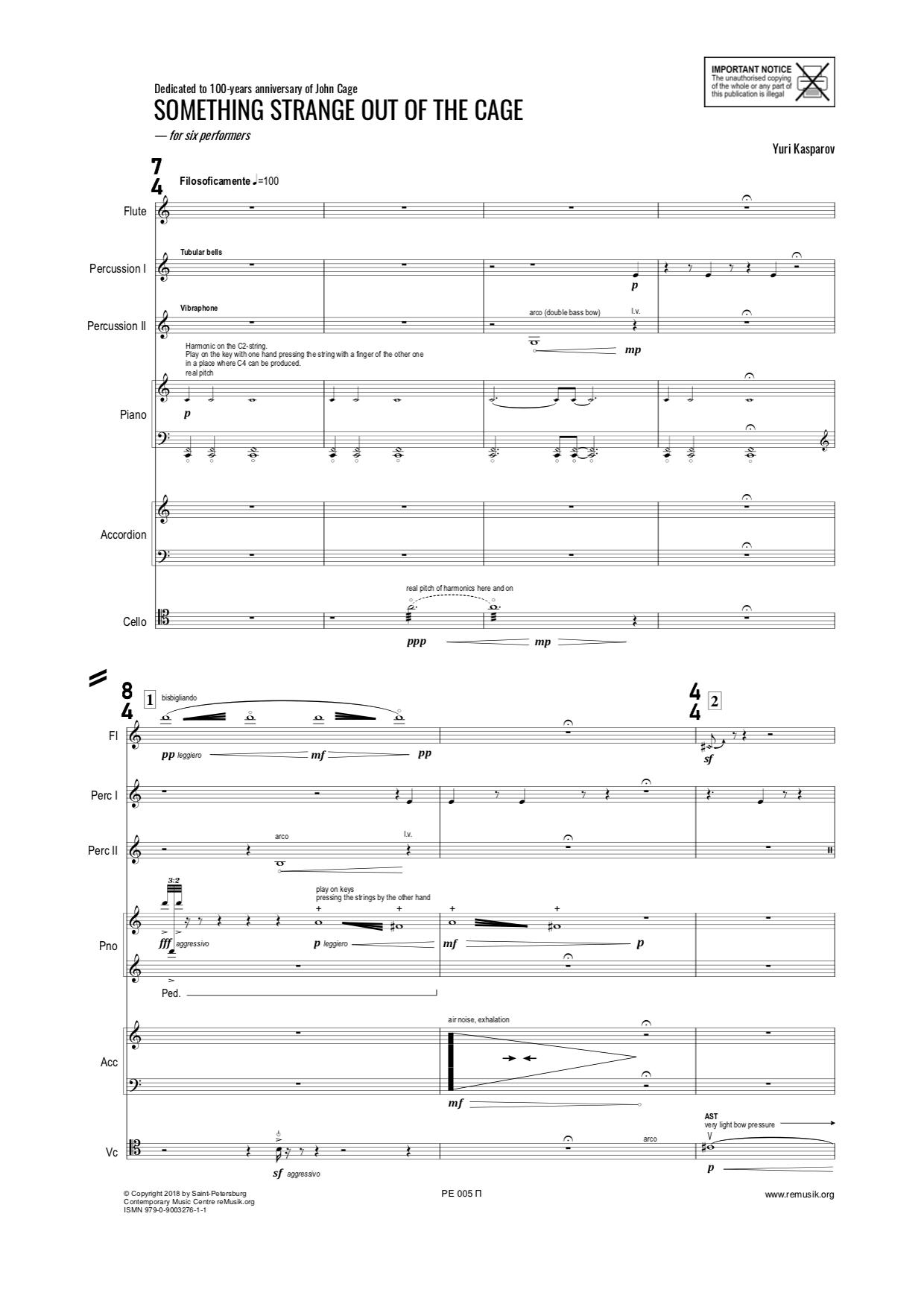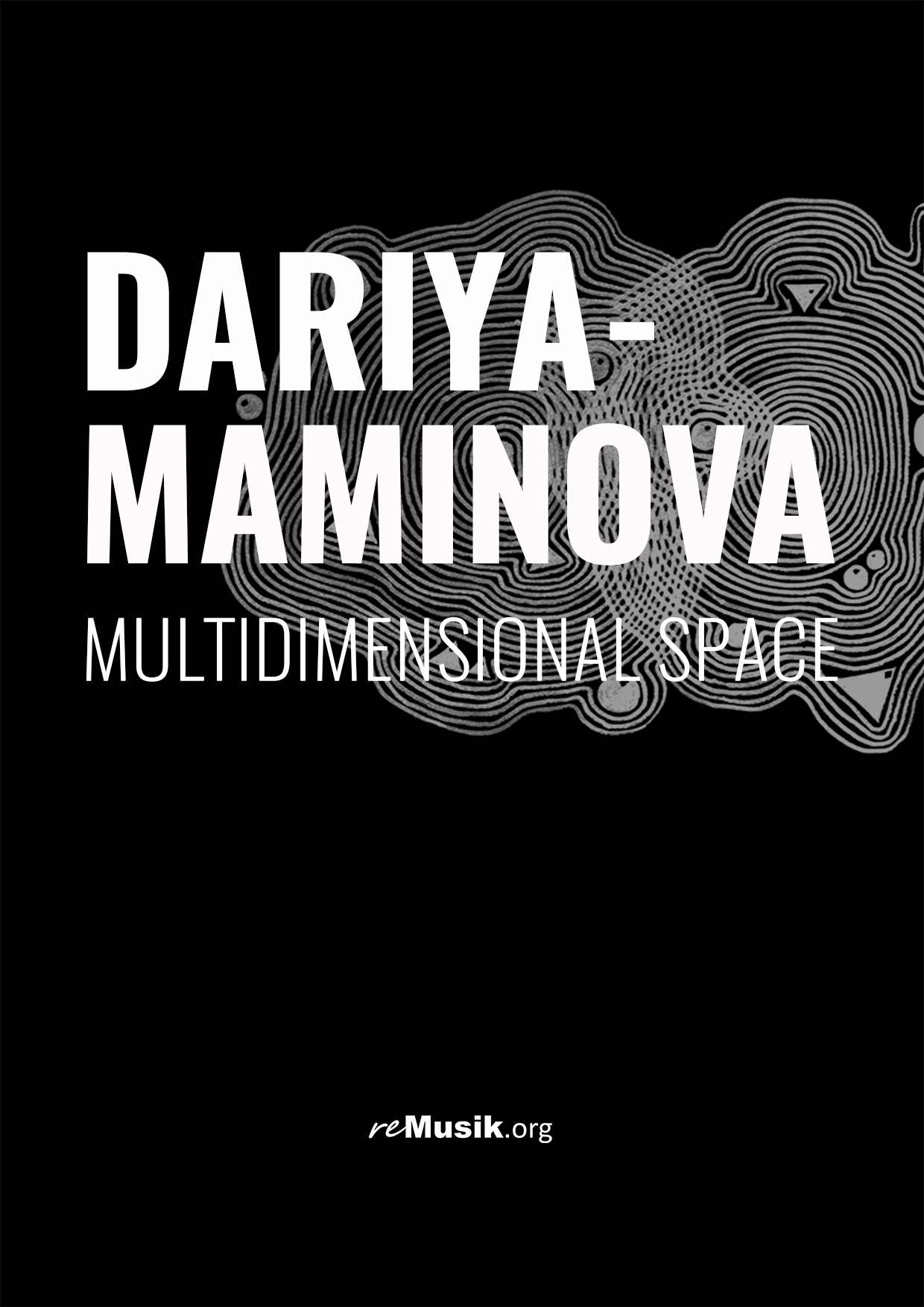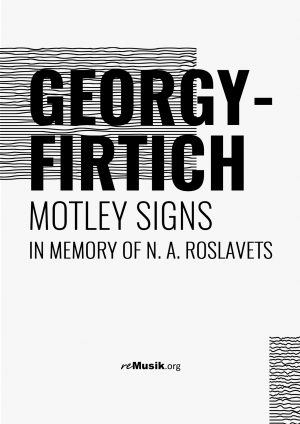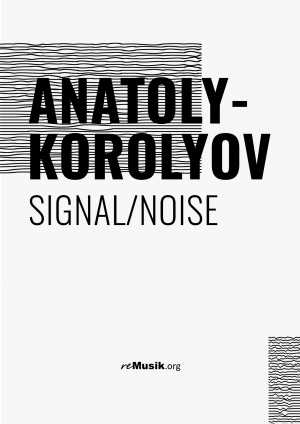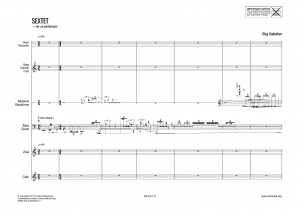Дмитрий Шубин:
«Сегодня речь – о личном звуковом высказывании»
Дмитрий Шубин:
«Сегодня речь – о личном звуковом высказывании»
В Санкт-Петербургском Арт-центре «Пушкинская-10» прошёл Международный аудиовизуальный фестиваль EPICENTROOM. В программе объединились выставки графической нотации, звуковые перформансы, саунд-арт, современная академическая, электроакустическая и импровизационная музыка, инсталляции. Главный редактор журнала reMusik.org Надежда Травина побеседовала с куратором, музыкантом, дирижёром Дмитрием Шубиным о прошедшем фестивале, где он представил, в том числе, акусматическую композицию с отсылкой к белорусским протестам, об его уникальном коллективе – Санкт-Петербургском импровизационном оркестре – и о том, что мы понимаем под импровизацией в музыке.
— Фестиваль EPICENTROOM. Как расшифровывается его название?
«Центр нигде, центр везде». У нас нет центрального помещения – формально, конечно, это Большой зал музея нонконформистского искусства, – но по смыслу центр у каждого свой, равно как и своя публика. На прошлом фестивале мы задействовали вообще все комнаты пространства, включая лестницы.
— Можете подвести уже какие-то итоги этого фестиваля?
Пока трудно что-либо подытоживать – не так много прошло времени. Но в целом я доволен. Мы смогли сделать большую выставку графических нотаций наших композиторов и две отдельные – Елены Рыковой и Татьяны Герасимёнок, удалось осуществить показы многоканальной инсталляции, презентовать книгу Элвина Люсье… У нас были мрачные сомнения, получится ли вообще что-то провести. До конца сентября всё находилось в подвешенном состоянии. Я столько курировал разных проектов, но такого никогда не было, чтобы за месяц собрать фестиваль. Мы очень удачно не стали ориентироваться только на онлайн формат – придумали нечто общее, полуофлайн, когда за выступлением музыкантов следила публика не только в зале, но и на экранах в прямом эфире. Мне кажется, такая диспозиция должна остаться и после ковида. Потому что психологически людям будет всё же трудно ходить на концерты.
— Насколько уязвимой для фестиваля оказалась сегодняшняя ситуация с концертными ограничениями?
Ощутимых потерь не было. Из-за ограничений по количеству зрителей нам пришлось ввести символическую цену на билет – 150 рублей: вход на фестиваль, в принципе, всегда был свободным. Но у нас и так небольшой, узкий круг слушателей – огромные толпы пришли, разве что, на первый, «общий» фестиваль, когда всё только начиналось.
— То есть, широкую публику трудно у вас представить?
Безусловно. Такая музыка в принципе не для широкой аудитории, и слава Богу. Человек всегда ориентируется на узнавание, пытается при знакомстве со звучащим найти какие-то параллели. Но если их нет? Становится неинтересно и скучно, возникает непонимание. Чтобы оно исчезло из нашего сознания, нужно время. Всё равно эти «эксперименты» потом спускаются в массовую среду. Я могу сказать на примере питерской сцены 1990-х. Николай Судник был одним из первых, кто начал в массовом порядке использовать пьезоэлектрические датчики. Тогда это было дико ново и дико интересно, узнаваемый звук. А сейчас стало обыденным явлением в массовой молодёжной электронике.
— А вы не делали каких-то попыток сближения с публикой? Сейчас очень модно проводить образовательные проекты, лекции, беседы.
А зачем? Мы не Манеж и не филармония. Мы – Арт-центр, который сроду не занимался никакой академической музыкой. Здесь была и до сих пор есть мощная поросль рок-музыки: Гребенщиков, Шевчук, Бутусов. В принципе, ничто не мешает публике пообщаться с музыкантами после концерта, посидеть и покурить в неформальной обстановке.
— У фестиваля есть финансовая поддержка?
В прошлом году была благодаря Комитету по культуре Санкт-Петербурга. А в этом фестиваль проводится исключительно силами Арт-центра «Пушкинская-10». Оркестр, кстати, тоже не имеет никакой поддержки. Да вся импровизационная музыка существует без денег. Никто не идет сюда зарабатывать – ей занимаются, поскольку у людей есть такая потребность. Это чисто питерские дела. Если нельзя играть глобальные вещи, требующие ресурсов, значит будем играть то, что ресурсы позволяют.
— Что самое вас как для куратора самое сложное?
Соблюсти общие границы высказывания. Фестиваль не сильно отличается от любого другого произведения искусства, разве что масштабом, но не смыслом. Важно составить общую картину – понять, что и как складывается. Среда Арт-центра достаточно герметична. Есть музыканты, которые играют десятилетиями, есть молодёжь, есть то, что мне интересно показать на фестивале для потенциального воздействия на публику. Также при составлении программы, безусловно, отражаются мои личные пристрастия.
Юлия Кравченко и Владислав Ридош. Элвин Люсье: Music for Piano with Slow Sweep Pure Wave Oscillators
— В один из дней фестиваля была представлена ваша композиция «Симфонии гудков (белорусская)». В чём заключается отсылка к событиям Беларуси, которые продолжаются до сих пор?
«Симфонии гудков» – это акусматическая композиция, в которой используются записи белорусских протестов, существующих в огромном количестве на телеграм-каналах и на YouTube. Вся работа состоит из реальных звуков тех событий. С первых дней после выборов протесты поддерживались автомобилистами – то и дело раздавались постоянные гудки. Это было очень мощно и красиво: гудело большое количество клаксонов, у всех разные частоты, разное акустическое пространство. Ещё, конечно, при создании «Симфонии гудков» я думал об одноимённом сочинении Арсения Авраамова.
— Чем оно вас вдохновило?
Оно интересует меня как вещь, социальная акция, реализованная в пространстве. И тогда, и сейчас, это произведение очень актуально. В нашем сознании и в действительности существует много ограничений – объект и субъект, скрипач и зритель, дирижёр и оркестр…Мы не можем никуда из этого «выпрыгнуть», так обусловлено наше мышление. И музыка XX века боролась с этим противопоставлением. Конечно, полностью его преодолеть нельзя, но всегда можно выйти за пределы этого противопоставления. Арсений Авраамов как раз этим и занимался, его «Симфония гудков» – это настолько эпохально! С одной стороны, она отражает время – все эти гудки, индустриальную среду, технический прогресс – а с другой, предвосхищает ситуацию, которая сложилась в музыке в 1950-60-е.
— Вы руководите Санкт-Петербургским импровизационным оркестром. Такому коллективу вообще нужны репетиции?
Иногда нужны. Но их смысл не в том, чтобы что-то отрепетировать заученное, а в том, чтобы слушать звук. Наши выступления делятся на два порядка: это регулярные концерты в Музее звука и «выездные» – принципиально два разных вида событий. Традиционный концерт на нашей домашней сцене выглядит так: в первом отделении я что-то придумываю заранее – музыканты воспроизводят, скажем, какую-нибудь графическую партитуру, а во втором отделении я даже не знаю, с чего мы начнем – полная свобода. Это всегда риск провала, и это нормально.
— Как вы понимаете, что в какой-то момент всё движется «не туда»? Теряется взаимодействие между музыкантами?
С этим как раз проблем нет. Но может начать разваливаться форма целого. И в этом случае я считаю правильным заменить ту ткань, которая звучала первые 10 минут на новую, внезапно возникшую, скажем, у трубача Кости Оганова – и вывести её на первый план. Мы не в филармонии, можем себе играть то, что считаем необходимым. А конечный результат уже с интересом слушаем на записи и понимаем, а что, собственно, получилось. У нас нет задачи создать что-то законченное. Мы следуем логике звукового материала и вслушиваемся в него.
Это я говорю о наших концертах в Музее звука – на выездных концертах всё по-другому. Там бывают 1-2 репетиции и все играют то, что предполагалось: у нас царит железная дисциплина. Когда мы выступаем в «Эрарте» или в Капелле, то должны помнить, что нас слушает неподготовленная публика, которая не в курсе нашей домашней атмосферы на сцене. Поэтому «расслабиться» мы можем только у себя.
Санкт-Петербургский импровизационный оркестр на фестивале EPICENTROOM 2020:
— Какие главные проблемы вы можете выделить в импровизации?
Взаимодействие в больших составах. Когда на сцене 3-4 человека, никаких проблем нет, все друг друга слышат. Дальше, при увеличении количества участников, начинаются акустические проблемы: иногда даже нельзя понять, кто в данный момент играет. И для того, чтобы регулировать этот процесс, нужен дирижёр.
В импровизации роль дирижёра воспринимается совершенно иначе, чем в академической музыке. Это, по сути, модератор: его задача – не столько в том, чтобы транслировать свою музыкальную мысль, сколько в том, чтобы услышать, что происходит на сцене и попытаться выделить из этого наиболее интересное. И здесь нет диктаторского начала.
— Я читала о том, что в импровизации дирижёр использует особые знаки, чем-то похожие на академические дирижёрские жесты.
В импровизации есть две системы дирижирования – огромная система американского дирижёра Уолтера Томпсона, где дирижёр оперирует тысячу знаками, и более ёмкая система его коллеги Уильяма Морриса. Однажды Моррис поехал на гастроли в Британию без музыкантов (везти их было дорого). По прибытию ему «выдали» музыкантов и сказали, что нужно с ними начать работать, вот какие они молодые и активные. Тур прошёл на самом высшем уровне, дирижер уехал, музыканты остались – так образовался Лондонский импровизационный оркестр.
— На какую систему вы со своим оркестром ориентируетесь?
Мне ближе концепция Морриса. Я считаю, не надо использовать кучу знаков, получится уже командная система – а это уже XX век. Последовательности знаков могут быть самыми разными – это решает дирижёр, но внутри этих заданных ограничений музыкант свободен. Когда у нас в оркестре появляются новые музыканты, я первое время их, естественно, не нагружаю изобилием знаков. А тем, кто играет в коллективе уже 8-9 лет, по сути, знаки и не нужны – главным знаком оказываются глаза. Знаковая система в импровизационной музыке – это особый синтаксис. Как правило, отдельные знаки не существуют сами по себе, они складываются в нечто целое как компоненты одного предложения.

— Я слышала, у вас также есть своя Школа импровизации. Может ли туда поступить музыкант, закончивший училище или консерваторию?
Теоретически, может. У нас учились ребята и после училища, и после консерватории, и те, кто не имел музыкального образования. Но я вам скажу, что с последними гораздо проще работать – они понимают контекст, в отличие от профессиональных музыкантов, у которых есть всё, кроме свободы мышления. Это не их вина, их просто долго учили. Мне всегда казалось, что идеальные музыканты – это те, которых выгнали из консерватории или они сами ушли из неё после 3-го курса, когда преподаватели их уже успели профессионально «накачать», но не успели зашорить глаза.
В нашей школе мы не учим играть. Мы объявляем набор: приходят ребята и мы с ними беседуем. После чего многие из них отсеиваются – например, кто-то хочет играть рок или джаз, а это явно не к нам. На собеседовании всегда понятен уровень игры. Неважно, на чём человек играет – хоть на тарелке. Важно, насколько человек понимает, куда он пришёл, знает ли, чем мы занимаемся в принципе. Однажды ко мне пришёл парень и говорит: «Я нот не знаю, но умею извлекать на гитаре звуки». Я ему говорю: «Ок, давай играть». Мы начали – он на гитаре, я за роялем – и вскоре я чувствую, как он строит диалог со мной, как он начинает вписываться в музыкальный процесс. И это дорогого стоит. Всё остальное придёт. Ноты – дело наживное.
— Что для вас импровизация?
Для меня импровизация – это что-то из эпохи романтизма. А сегодня речь о другом – о личном звуковом высказывании. В конечном итоге – речь о свободе.