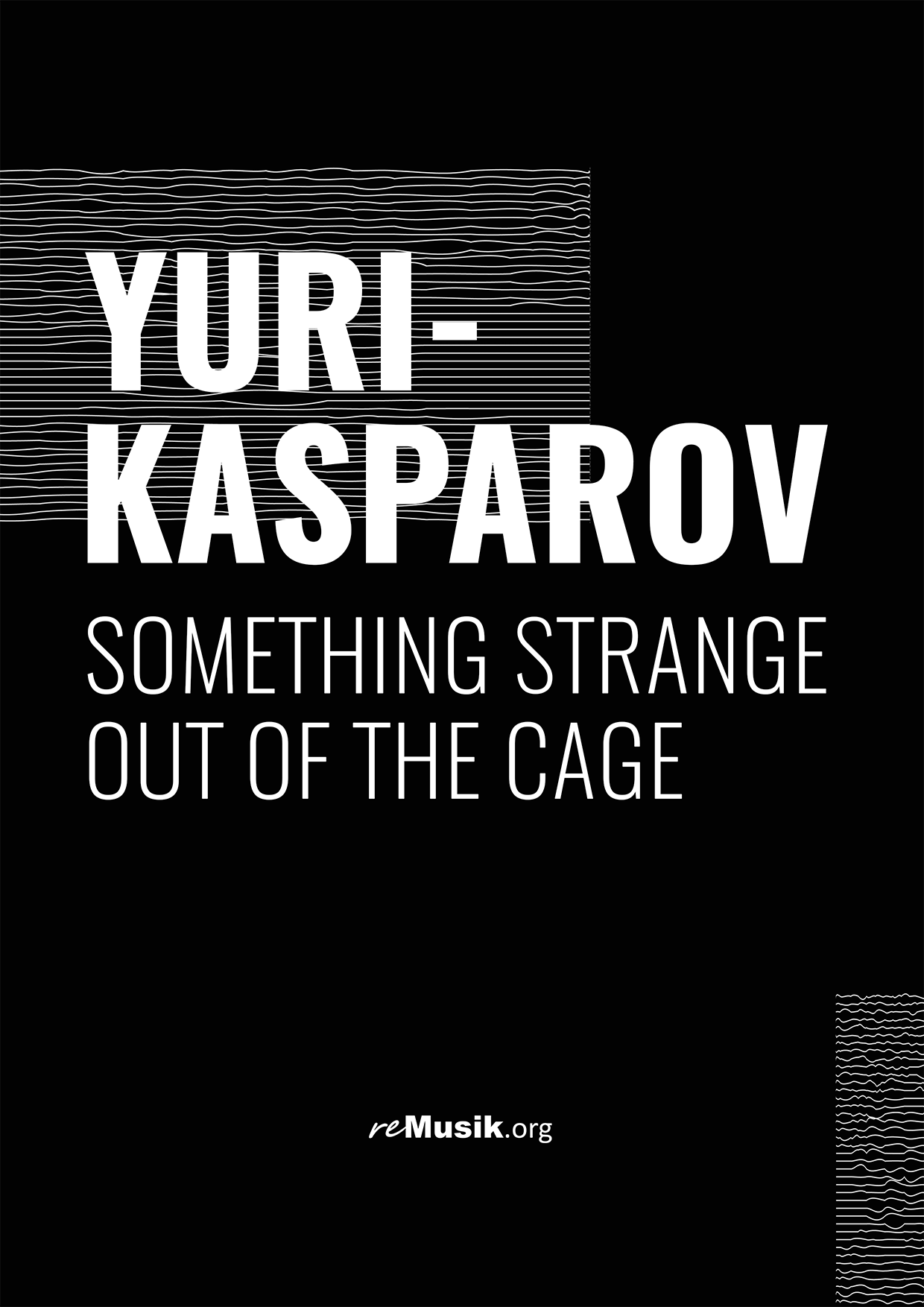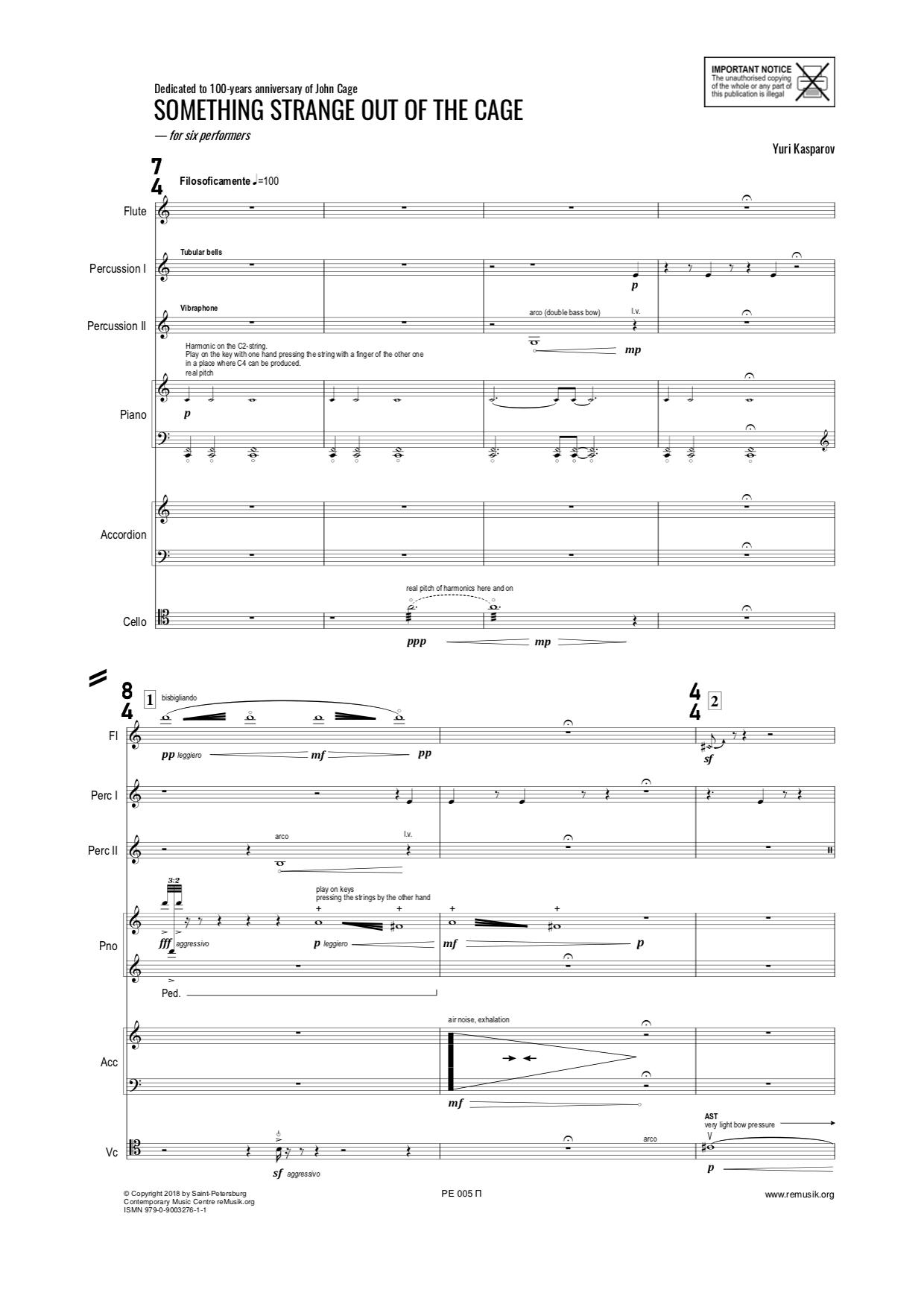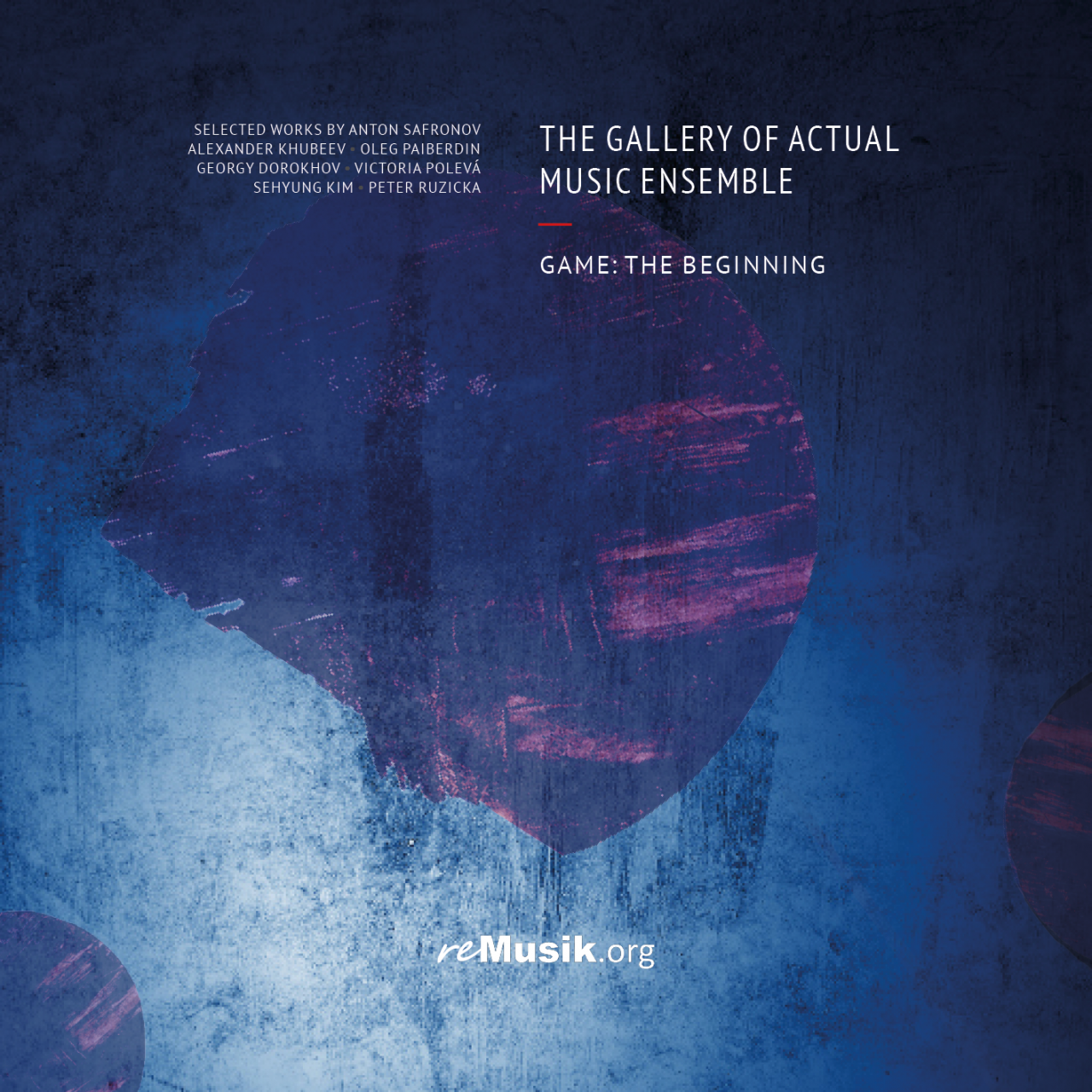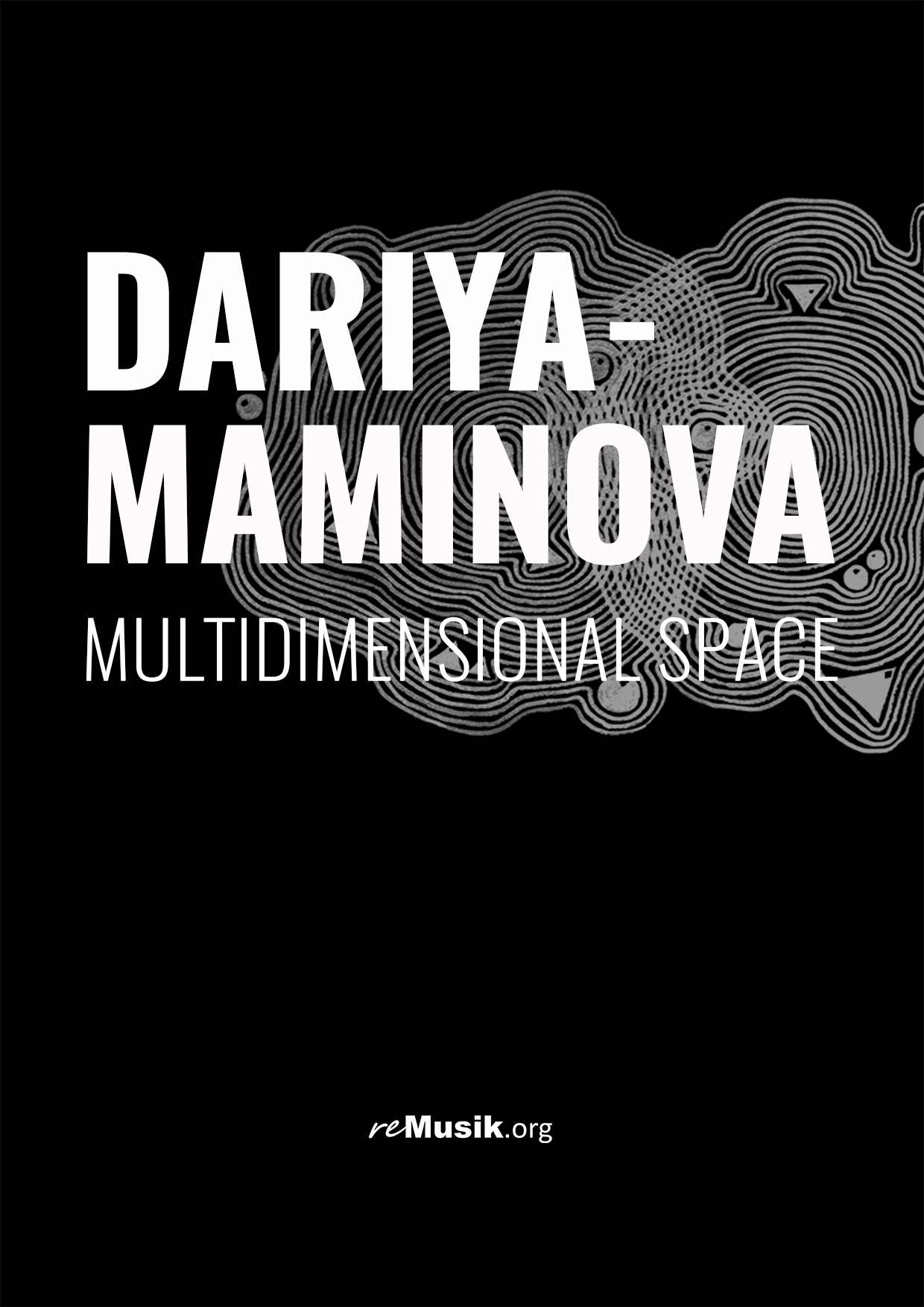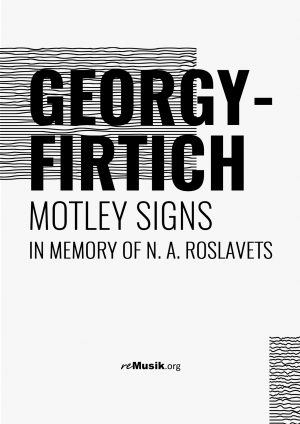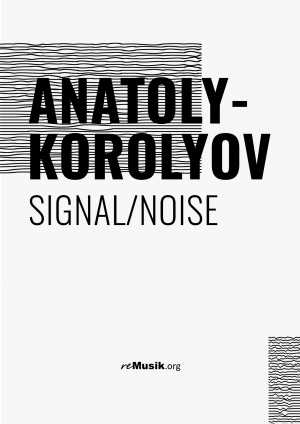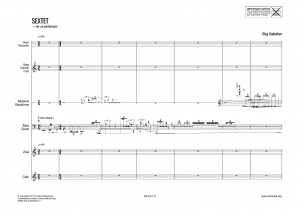Дмитрий Ренанский:
«Новая русская музыка – нефть нашей культуры»
Дмитрий Ренанский:
«Новая русская музыка – нефть нашей культуры»
Ещё одним героем нашего спецпроекта стал Дмитрий Ренанский – театровед, музыкальный критик, куратор Школы Masters (Санкт-Петербург), куратор лекционных программ Нового пространства Театра Наций (Москва). Дмитрий Ренанский также является главным редактором Masters Journal, шеф-редактором блока «Театр» интернет-портала Colta.ru, постоянным автором ИД «Коммерсантъ» и газеты «Ведомости». Помощник художественного руководителя «театра post», сооснователь творческого объединения «Опергруппа». Работал в Михайловском театре и в Театре на Таганке. В 2013-2016 годах был заместителем главного режиссера-программного директора Новой сцены Александринского театра. Мария Андрющенко поговорила с Дмитрием о деятельности фонда V–A–C, о роли музыки в жизни современных институций и о том, почему программы концертов необязательно должны нести некий месседж.
— Слово «куратор» вошло в словарь российской культурной индустрии сравнительно недавно. В отличие от Европы и Америки, в России оно пока прочно ассоциируется с современным искусством и музеями. Вы сейчас выступаете в роли куратора музыкального направления в институции современного искусства – фонде V–A–C. Чем занимается куратор в этой области и, чем, на ваш взгляд, такой куратор перформативных искусств отличается от музейного?
Мне довольно трудно ответить на этот вопрос, потому что до начала работы в фонде V–A–C я никак не был связан с миром современного искусства – и, конечно, совсем не понимал, по каким законам он существует. Более того: я начал сотрудничать с фондом примерно полтора года назад – и до сих пор у меня возникает ощущение того, что я нахожусь на какой-то совершенно новой для себя территории. Это, надо признаться, очень освежающее, возбуждающее чувство. Я лишний раз убедился в этом, когда в ноябре впервые в жизни оказался на венецианской Биеннале – я ходил по залам Арсенала и ловил себя на мысли о том, что если и говорю на этом языке, то только ломаными фразами, с помощью условного путеводителя.
Так, впрочем, было всегда. Я почему-то вспомнил сейчас, как много лет назад великий Аркадий Викторович Ипполитов устроил для какого-то количества своих знакомых экскурсию по выставке «Прадо в Эрмитаже», на которой я к тому моменту был уже несколько раз – и, как мне казалось, неплохо её знал. Разумеется, после того, я как прошёл ту же выставку в компании Ипполитова, оказалось, что это совершеннейшая иллюзия – выяснилось, что я не считывал то определённое повествование, нарратив, драматургию, которые были заложены кураторами экспозиции… Это я к тому, что на территории совриска я по-прежнему чувствую себя не слишком уверенно, поэтому я бы предпочёл воздержаться от каких-либо аналогий.
— Как вы стали куратором?
Профессиональная самоидентификация – очень сложный вопрос. Мне кажется, что впервые сознательно термин «куратор» я поставил рядом со своей фамилией в 2018 году, когда Театр Наций предложил мне придумать для них публичную программу. Но склонность что-то конструировать у меня была, видимо, более-менее всегда. Недавно меня накрыл флешбэк родом из детства: мне что-то около тринадцати лет, лето, каникулы, я лежу на пляже в польском городе Гданьск и листаю любимую свою тогдашнюю книгу – «Родион Щедрин. Нотографический справочник». В Советском Союзе было принято издавать такие гроссбухи по всем ведущим композиторам – со списком произведений, составом оркестра для каждого из них, хронометражом, датой первого исполнения, библиографией и так далее. Будучи страстным поклонником музыки Родиона Константиновича (коим я, к слову, остаюсь до сих пор), я прикидывал в уме программы гипотетического юбилейного фестиваля Щедрина, придумывая какие-то любопытные, как мне казалось, сочетания сочинений в рамках одного концерта…
— Просто так, для себя?
Ну да. Какой-то я находил в этом фан. Потом я на много лет ушёл в музыкальную и театральную критику, а дальше произошло то, что обычно происходит с людьми, которые долгие, долгие годы пишут заметки – им это в какой-то момент чудовищно надоедает, и они уходят либо в режиссёры, либо в продюсеры, либо вот в кураторы. Четвёртого, как говорится, не дано. В силу природного темперамента мне с каждым годом становилось всё сложнее и сложнее продолжать существовать в критическом амплуа. Тут, наверное, нужно заметить, что я пишу очень медленно, и с каждым годом скорость письма только замедлялась – очень трудно просто заставить себя сидеть на одном месте в течение нескольких дней для того, чтобы сдать заметку. Я с завистью сейчас вспоминаю дни, когда портал OpenSpace.Ru только запустился, и рецензию на концерт, на который ты сходил вечером, нужно было сдать до 11:30 утра следующего дня. Но в какой-то момент ты понимаешь, что просто не можешь продолжать быстро и качественно работать на протяжении долгого времени – ты себя загоняешь, источник иссыхает, и единственный шанс выжить – это переключиться на что-то другое.
Впервые такой shift приключился со мной весной 2010 года – за него я буду до конца своих дней благодарить Владимира Абрамовича Кехмана. Я тогда заканчивал театроведческий факультет РГИСИ, а Михайловский театр переживал трудности подросткового периода – описываемые события происходили за несколько лет до того, как экс-МАЛЕГОТ стал самым амбициозным музыкальным театром страны. Интендант Кехман пытался нащупать правильную стратегию, я его со свойственной юности безоглядностью страстно «мочил» в своих текстах – вплоть до того момента, когда Михайловский не выпустил первую кондиционную продукцию, «Иудейку» Арно Бернара. Наутро после выхода моей рецензии Владимир Абрамович позвонил и предложил стать его то ли советником, то ли заместителем – я уже не помню, как это точно формулировалось – чем страшно меня, надо сказать, удивил. Я должен был заниматься разработкой концепции развития театра – и это было, конечно, чистым безумием. Мне было 23 года, до этого я ни дня не работал в театре и не слишком хорошо представлял, как эта гигантская машина устроена – понятно, что я был обречён: какое уж тут развитие, какое планирование. В штате я проработал в итоге около полугода, но с Михайловским жизнь была связана еще несколько следующих лет – я работал в нем уже в качестве члена постановочной бригады «Евгения Онегина» Андрия Жолдака. Дебют Жолдака на оперной сцене был в числе тех немногих идей, которые я пытался транслировать Кехману во время наших с ним бесед. У меня была довольно безыскусная стратегия, которой я стараюсь придерживаться и по сей день: я настаивал на том, что нужно поддерживать отечественного производителя, что нужно ориентироваться на режиссёров из драмы, которые ещё не работали в опере, что нужно не дать Дмитрию Чернякову окончательно «уплыть» на Запад. Собственно, если вы помните репертуар Михайловского его «золотого века», 2012–2015-е годы, всё это случилось – «Онегин» Жолдака, «Царская невеста» Могучего, «Трубадур» Чернякова…
— Потом в вашей жизни возник «театр post».
Забавно, что с режиссёром Дмитрием Волкостреловым мы познакомились буквально через несколько месяцев после моего увольнения из Михайловского – «это что же такое, не одно, так другое», как пела Елена Камбурова. Но в «театре post» я занимался скорее пиаром, продвижением, упаковкой того, что делали мои любимые коллеги – хотя это тоже, наверное, часть кураторской работы. Или нет? Но всё-таки первым своим полноценным большим проектом я считаю «Опергруппу» – историю, которая возникла осенью 2011 года, а реализовывалась начиная с осени 2012-го. Мне позвонил режиссёр Василий Бархатов, с которым мы на тот момент уже какое-то время приятельствовали и о спектаклях которого я регулярно писал – и рассказал, что государство, дескать, готово выделить значительный бюджет на поддержку новой русской музыки. Дело было в благословенные времена, на самом излёте медведевской оттепели, когда в культуре был объявлен тренд на модернизацию. Я написал по просьбе Бархатова какую-то пояснительную записку о том, как важно поддержать молодых российских композиторов, а потом всё завертелось – и мы придумали ту программу, которая в итоге была представлена в сезоне 2012/2013: с операми Невского, Филановского и так далее.
Следующим, как сейчас модно говорить, челленджем, был приход на Новую сцену Александринки – это очень, очень важный опыт, и его, кажется, тоже можно назвать кураторским. По штатному расписанию я занимал должность заместителя главного режиссёра, фактически я выполнял функции программного директора – человека, придумывающего контент и выстраивающего то, что можно назвать «программной архитектурой». Что такое театр? Театр – это пустое здание, в котором ты должен построить ещё одно здание, состоящее из спектаклей и разнообразных форм публичных активностей. Этим мы и занимались с главным режиссёром Маратом Гацаловым, который всегда был открыт к любым новым идеям. Два полных сезона Новой сцены – 2014/2015 и 2015/2016 – были придуманы примерно за два месяца работы, финальную точку я поставил, как сейчас помню, в мае 2014-го в берлинском Тиргартене. Документ состоял из двух частей – идеологии Новой сцены и программы, в которой она воплощалась (лекционная, музыкальная, публичная программы), был очень тепло принят тогдашним директором театра Григорием Поповым и худруком Валерием Фокиным – и всё было запущено в работу.
В небольшой паузе, которая образовалась после ухода из Александринки летом 2016-го, мы с Дмитрием Волкостреловым выпустили спектакль «Художник извне и изнутри» по книге Аркадия Ипполитова – его, наверное, тоже можно причислить к кураторским опытам. А потом осенью 2018 года Полина Бондарева позвала меня работать в петербургскую Школу Masters – вместе с которой мы придумали, например, публичную программу «Big Data» для БДТ. Тогда же стартовал цикл интеллектуальных марафонов «How Long Is Now» в Театре Наций – стопроцентно авторская, кураторская история, которой я без ложной скромности горжусь: лекционная программа, придуманная как высказывание – и одновременно как исследование.
— Вы сейчас называли проекты в театре, образовательные проекты, публичные программы. Не значит ли это, что фигура куратора всё же универсальна?
Современные культура и искусство тяготеют к размыванию границ, а я этого, честно признаться, немножко опасаюсь. Возможно, это олдскульная, непопулярная точка зрения, но я считаю, что профессионализм – это что-то узкопрофильное. Понятно, что ты должен максимально широко ориентироваться в культуре в целом, но профессионал – это узкий специалист. Я, к примеру, могу по-настоящему отвечать за свои слова и поступки только в двух областях – это драматический театр и академическая музыка, всё. В этом смысле начало работы с фондом V-A-C было сопряжено, повторюсь, с диким стрессом: ситуация кросс-дисциплинарности, к которой апеллирует вся деятельность фонда, ужасно привлекательна – но она бросает тебе как этому самому узкому специалисту серьезный вызов.
— Раз уж мы вернулись снова к V–A–C – расскажите о ваших планах здесь?
Ну, у меня в фонде V–A–C нет и не может быть никаких личных, индивидуальных планов: всё-таки я являюсь частью большой команды, в которой работают такие блестящие молодые кураторы как Анна Ильченко, Ольга Цветкова, Мария Крамар, Андрей Парщиков, Андрей Василенко, Кирилл Адибеков, Анна Ильдатова – это раз. Два – в фонде V–A–C над музыкальной программой я работаю бок о бок со своим коллегой Никитой Рассказовым, который специализируется на неакадемической музыке. Три – музыкальная программа ГЭС-2, над которой мы сейчас работаем, будет объявлена тогда, когда придет её время, и говорить о каких-то её деталях мне не кажется уместным.
Я бы предложил поговорить о каких-то более общих вещах, которые, на мой взгляд, могут в принципе определять сегодня стратегии музыкального кураторства в России, без привязки к конкретной институции. Мысль моя очень проста, я повторяю её, как мантру. В последние годы в моду всё больше и больше входит использование локальных продуктов на кухне – когда повара готовят из того, что вырастает и производится в конкретное время года в конкретном регионе, сохраняя, так сказать, генетический код места. С музыкой, тем более новой, тем более академической, ситуация та же самая. Мы сегодня имеем дело с уникальной ситуацией: у нас активно работает сразу несколько мощнейших композиторских поколений. Старшее – это Филановский, Курляндский, Невский, Раннев и иже с ними. Среднее – это Горлинский, Сысоев и компания. И есть поколение ещё более молодых – Гудачёв, Крохалев, Звездина, Полеухина. Они очень разные, они невероятно интересные, но их потенциал, как мне кажется, до сих пор по-настоящему не раскрыт. В стране отсутствует практика систематической поддержки композиторов путём заказа новых произведений. Та институция, которая первой этим займется, сделает большое дело для российской культуры, получит максимальные репутационные дивиденды и обеспечит себе место в истории. В смысле кураторства здесь всё достаточно безыскусно: твоя задача – дать этим композиторским генерациям состояться. Это можно сравнить, думаю, с ситуацией, при которой необходимо улучшить генофонд: ты должен создать условия, при которых будут рождаться дети. А дальше – не твоё дело: что вырастет, то вырастет.
Задача номер два – дать возможность реализоваться трём лучшим в стране ансамблям, которые занимаются исполнением новой музыки и существуют без крыши над головой, без постоянной государственной поддержки: московские МАСМ Виктории Коршуновой и Questa Musica Филиппа Чижевского плюс петербургский eNsemble.
Задача номер три – необходимость исполнить живьём в России некоторое количество новой западной музыки, которой у нас знают в лучшем случае по записям и роликам на YouTube. Тут мы сталкиваемся с совершенно непаханым полем, но я бы выделил имена, которые значимы лично для меня – типа Йоханнеса Крайдлера, выдающегося немецкого композитора-акциониста, или Хельмута Эринга, или Дрора Фейлера. Но это, повторюсь, только отдельные имена из обширного виш-листа людей, которые должны появиться в русском культурном контексте.
— Мы можем надеяться на то, что они появятся в афише ГЭС-2?
Давайте вернемся к этому разговору через какое-то количество времени. ГЭС-2 – слишком масштабный проект, состоящий из многих компонентов, тесно связанных между собой. Как вы, возможно, знаете, в первые несколько лет работы ГЭС-2 будет жить в рамках программы «Святые варвары», рассчитанные на пять тематических сезонов: «Правда: зачем реализм», «Мать: почему Родина – мать?», «Космос наш: в будущее возьмут всех» и так далее. Каждый из этих «сезонов» будет длиться около полугода и будет обладать сложной программной архитектурой на стыке разных медиумов. В этом смысле говорить об отдельно взятой музыкальной программе здесь невозможно.
— Это работает как сезон в театре в каком-то смысле? Как предлагал Жерар Мортье?
Да, хороший референс. Интересно, что это тематическое, сюжетное, исследовательское мышление, которое в известной мере определяет работу в фонде V–A–C, вообще-то довольно сильно отличается от того, как я стараюсь работать в последние годы с другими институциями. Поясню, что я имею в виду на конкретном примере. Я сейчас разрабатываю предложения по программе следующего концертного сезона для одной крупной российской культурной институции, которую я в последнее время консультирую – и столкнулся с очень неожиданным для меня парадоксом. Жерар Мортье (и не только он) вроде бы приучил нас к тому, что программа – будь то оперного сезона, или концертного, или театрального – должна что-то говорить, нести какой-то месседж, содержать какой-то стейтмент. Возможно, во мне говорит, ха-ха, старость, но чем дальше ты занимаешься тем, чем занимаешься, тем больше убеждаешься в мысли о том, что в какой-то момент тебе как куратору – или программному директору, или автору той или иной программы, как не назови – лучше заткнуться, и предоставить право искусству говорить за себя. У Дэвида Линча по этому поводу есть великая фраза – «If you want send a message, you can use Western Union». Программа, конечно, может о чём-то говорить – но отнюдь не всегда должна. Два самых сильных моих музыкальных впечатления последнего времени были получены на концертах, в которых говорила музыка и её исполнители: когда два года назад в Зальцбурге Теодор Курентзис сыграл девять симфоний Бетховена – без всякого, так сказать, концептуального гарнира – и когда в феврале этого года Михаил Плетнёв сыграл в Париже две сонаты Моцарта и две сонаты Бетховена. В обоих случаях программы были составлены очень консервативно, без особого изыска – но сколько в них было неожиданных музыкальных идей, какие это были невероятные высказывания!
— Вашим первым проектом в фонде V–A–C стала аудиоинсталляция «Китеж», которую Владимир Раннев сделал в палаццо Дзаттере. Почему вы выбрали этого композитора, какие задачи перед вами стояли?
Забавно, что чуть выше я декларировал принцип невмешательства в работу художника, потому что «Китеж» – это совсем другая история. Для начала, наверное, нужно рассказать о вводных. У фонда V–A–C есть собственная площадка в Венеции – V–A–C Zattere, неподалеку от той самой Набережной неисцелимых, которую когда-то воспел Бродский. «Китеж» был создан в рамках проекта «ДК “Дзаттере” 2019/2020», переосмыслявшего идею центров культурного производства, возникшего в России 1920-х годов. Частью этого проекта была выставка, располагавшаяся в небольшом зале на втором этаже Палаццо Дзаттере – работы художников-модернистов (Модильяни, Леже, Шиле) и советских авангардистов (Родченко, Гончарова) встречались в ней с произведениями соцреалистов-шестидесятников, хранящимися в самарской галерее «Виктория» (Белоусов, Сушко, Филатов). Ключевым для «ДК “Дзаттере” 2019/2020» была тема саспенса, ожидания каких-то глобальных перемен – того, что Луиджи Ноно называл La Lontananza Nostalgica Utopica Futura (по-русски поэтичное название этого произведения не слишком точно переводится как «Томительная даль будущего»). Скажем, в экспозиции была представлена картина «Дорога на Тольятти» художника Валентина Белоусова. Тут важно вспомнить, что до 1964 города Тольятти не существовало – был город Ставрополь-на-Волге, затопленный во время строительства водохранилища и перенесённый на новое место уже под новым названием, получив имя в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. «Дорога на Тольятти» в Венеции – это довольно сильно, согласитесь.
В какой-то момент в ходе работы над проектом – а «ДК “Дзаттере”» был коллективным сочинением большой кураторской группы – я предложил исследовать тему саспенса, затопления и т.д. музыкальными средствами – и вспомнил легенду о граде Китеже. Всё дальнейшее уже было делом техники. Ты понимаешь, что поскольку речь идет о пространстве скорее выставочном, а экспозиция будет работать что-то около полугода – значит, проект должен быть устроен логистически просто, по принципу plug and play. То есть наиболее подходящим оказывается формат музыкальной инсталляции. Кто в России лучше всего работает с электронной музыкой? Правильно, Владимир Раннев – композитор, с которым мы к тому моменту уже довольно много (и всегда с большим удовольствием) сотрудничали на территории театра. Бинго: «Дорога на Тольятти», саспенс, основанная переселенцами Венеция, бежавшими от варваров, Китеж, жители которого бежали от татаро-монгольского нашествия… А где Китеж – там и «Китеж», шедевр Римского-Корсакова, opus mysticum и, пожалуй, что главная русская опера. Я рассказал Володе затею, предложил ему поработать с музыкальным материалом партитуры Римского – и мы начали работать. «Китеж» – один из самых важных для меня музыкальных текстов, я знаю эту оперу буквально наизусть, и в процессе подготовки проекта имел наглость предлагать Володе конкретные эпизоды оперы, с которыми, как мне казалось, интересно было бы поработать. К приезду в Венецию на монтаж проекта «Китеж» был готов процентов на семьдесят – очень многое доделывалось на месте, исходя из акустических и логистических особенностей пространства Палаццо Дзаттере. Здесь мне как куратору была отведена чисто служебная роль – помочь художнику взглянуть на то, что он делает, со стороны: как части проекта могут быть расположены в пространстве, какие акценты необходимо расставить и так далее. Результат, как мне кажется, получился очень любопытный – «Китеж» Раннева стал экосистемой, звуковым космосом, в центре которого располагалась выставка, о которой я говорил выше.
— Программа Landscape, которую исполнили МАСМ в Венеции, в палаццо Дзаттере, это тоже часть этого выставочного проекта? Расскажите, как они связаны, какова концепция концерта, как выбиралась программа?
Я с самого начала хотел представить МАСМ в Венеции, но сперва речь шла о совсем другой программе – про саспенс в музыке. Исходная точка была понятна: довольно глупо везти в Италию европейскую музыку – и ставку мы должны были сделать на новый русский репертуар. Но, как и при составлении любой программы, мне не хватало сочинения, которое могло бы стать её ядром, которое бы проговаривало тему проекта и выражало его атмосферу. В бесплодье умственного тупика я обратился к великому русскому композитору Сергею Невского – и Сережа, замечательный куратор и человек энциклопедических знаний, посоветовал мне послушать сочинение Ольги Нойвирт «!?dialogues suffisants!?», в котором она работает с материалом фильма Дэвида Линча Lost Highway. Так паззл, наконец, сошёлся. Но в какой-то момент стало понятно, что в Палаццо Дзаттере просто нет помещения, которое бы подходило для этой программы логистически и акустически. Ещё позже стало ясно, что в силу разного рода организационных причин до Венеции сможет доехать самый камерный состав МАСМ – квартет флейтиста Ивана Бушуева, виолончелистки Ольги Дёминой, пианиста Михаила Дубова и кларнетиста Олега Танцова. Дальше мы с директором МАСМ Викторией Коршуновой придумали программу, которая с одной стороны должна была работать на музыкальную активацию пространства Палаццо Дзаттере – но одновременно была бы стилистически разнообразной и представляла бы музыкантов МАСМ. Всё начиналось с инструментального театра Кейджа, который встречался лицом к лицу с Тору Такемицу, Стив Райх – с Исан Юном, а Фредерик Ржевский – с автором «Китежа» Владимиром Ранневым. Так всё и зарифмовалось.
— Как вы думаете, станет ли пример фонда V–A–C, который уделяет много внимания музыкальным проектам, примером для других институций современного искусства?
Фонд V–A–C действительно всегда делал ставку на музыку – это было очевидно хотя бы по масштабному и невероятно впечатляющему проекту «Геометрия настоящего», с которого в 2017 году началась новая жизнь ГЭС-2. Сложно делать сейчас какие-то прогнозы, но я убеждён, что роль музыки в жизни институций современного искусства будет возрастать с каждым годом. Причина чрезвычайно проста и даже тривиальна: музыка – это язык эмоций, язык чувственный, язык, который не требует перевода, язык, изначально свободный от любых идеологических конструкций, от которых мы так сегодня устали. За этим языком – будущее.
— Россия всё ещё по многим признакам остается музыкальной провинцией. Как вы думаете, проект, подобный тому, который предлагает V–A–C, сможет благотворно повлиять на развитие современной музыки в России и поможет ли продвижению на Запад? Или для этого нужны другие меры?
Позволю себе с вами не согласиться: выше мы говорили о фантастической плеяде российских композиторов. Страна, в которой одновременно работают Раннев, Курляндский, Крохалев, Гудачёв, Сысоев по определению не может считаться провинцией. Проблема в другом – в том, какое место отведено новой музыке в системе культурной жизни страны в целом, в том, как её поддерживает государство. Что касается представления сегодняшней русской музыки на Западе – это отдельный большой и очень важный пласт работы. Минувшей осенью в Россию приезжала Джиллиан Мур – музыкальный директор и куратор программы классической и современной музыки лондонского Саутбанк-центра. На мой вопрос о том, что последнее, самое свежее слышали из русской музыки в Англии, она, задумавшись, назвала в ответ две фамилии – Мартынова и Тарнопольского. В континентальной Европе ситуация чуть лучше, но Западу так или иначе ещё предстоит открытие российских композиторов поколения пятидесятилетних, сорокалетних, тридцатилетних – нам есть что предъявить городу и миру. Новая русская музыка – это нефть нашей культуры.
— Не так давно я спрашивала Бориса Филановского, где искать залы для современной музыки и как собирать публику. Он ответил мне, что нужно идти в институции современного искусства, так как в них ходят люди, которым это могло бы быть интересно и пространства там подходящие.
Это, безусловно, верно – мы же помним, что самым успешным кураторским проектом в области новой музыки была «Платформа» в те годы, когда за её музыкальную программу отвечали Сергей Невский и Владимир Раннев. Тогда новую русскую музыку открыла для себя широкая публика, интересующаяся современным искусством. В то же время я убеждён, что музыка не может существовать исключительно на территории кросс-культурных институций: её место прежде всего там, где она, так сказать, исторически прописана – в концертных залах, в филармониях. В этом направлении нам ещё работать и работать… На прошлой неделе я внимательно изучил только что опубликованную программу будущего сезона Парижской филармонии: в большом зале Пьера Булеза, рассчитанном на 2300 мест, 10-15 % афиши в сезоне 2020/2021 – это музыка последнего десятилетия ХХ и начала XXI века. Надеюсь, что институции, подобные ГЭС-2, запустят цепную реакцию, и новая музыка займёт в России то место, которое она заслуживает по праву.